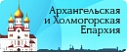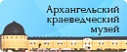Текст экскурсии "Претерпевшие до конца"
Для начала у меня к вам просьба: я буду постоянно говорить вам «Убили. Расстреляли. Замучили». Как говорит молодёжь, буду «грузить» вас. Когда вам покажется, что я перехожу некую черту, помолитесь про себя: «Господи, помилуй!» Господь милостив! Закончим экскурсию мы всё равно на оптимистической ноте и постараемся увидеть не падение гонителей, а высоту духа гонимых.
Итак, начинаем. Если посмотреть на карту Архангельской области, то мы увидим, что вся она покрыта «скорбными» местами. Прямоугольниками мы отметили на карте лагеря. Прежде всего – знаменитые Соловки. Место, где система ГУЛАГа была впервые реализована, оценена властями. Мы будем говорить про них подробно. Но люди, прошедшие лагеря, называют самыми страшными не Соловки, не Колыму, а лесозаготовительные лагеря, такие как «Кулойлаг», или «Каргопольлаг».
Красными кружками мы отмечаем места гибели новомучеников. Чёрными - массивы захоронений, такие как лявленские.
Треугольниками отмечены на карте спецпоселения. Пока мы знаем о них очень мало, но надеемся на помощь экскурсантов, вашу помощь.
Экскурсию легче вести (и слушать экскурсовода тоже), если придерживаться хронологического порядка. Поэтому начинать нам надо с приезда в Архангельск комиссии Кедрова. Правда, развернуться ему обстоятельства не дали, разве что он разогнал «небольшевицкую» советскую власть. Но мы оставим пока Кедрова, мы будем говорить о нём много. Не потому, что мы его особенно любим или ненавидим, не в этом «дважды почётном чекисте» суть. В драке (а гражданская война – это драка гиганских размеров) побеждает иногда не более искусный боец, а тот, кто не стесняется применить запрещённый приём. Люди, развязавшие гражданскую войну в России, не связывали себя никакой моралью. «Нравственно то, что идёт на пользу борьбе рабочего класса, то есть нам» – вот был их девиз. В Архангельск устанавливать советскую власть приехал Кедров, на Печёре действовал человек по фамилии Мандельбаум. Во главе небольшого отряда (сначала 30 человек) ему удалось захватить печёрские пароходы, и, спускаясь вниз по реке, он наращивал свой отряд за счёт местных большевиков. К Усть-Цильме их насобиралось уже 175 человек.
Окружив село, они быстро арестовали местную власть Временного правительства, захватили казначейство и телеграфные аппараты. (Классически –почта, телефон, телеграф).
(Мы ведём повествование, цитируя исследование архангельского краеведа Веры Фофановой о протоиерее Аифале Суровцеве, настоятеле Усть-Цилемского собора)
Несколько красноармейцев пришли в собор, топорами вырубили дверь, так как сторож им не открыл. Не найдя спрятавшегося сторожа, они послали первого попавшегося мальчика за настоятелем, и, когда о. Аифал пришел, потребовали выдать оружие. В ходе обыска никакого оружия, конечно, не оказалось. В храме красноармейцы вели себя кощунственно — не снимали шапок, курили и перед уходом выпили полчетверти церковного вина.
Вернувшись домой, о. Аифал даже не успел рассказать семье о происшедшем, как в дверь начали ломиться красноармейцы с требованием,чтобы священник шел за ними. На допросе о. Аифала били, затем отвели на пароход «Александр» вместе с другими арестованными. Около 12 часов дня пароходы отчалили и направились вверх по Печоре. В течение десяти дней арестованных постоянно били на допросах. Немного не доходя до села Троицко-Печорского, пароходы остановились. Здесь был произведен последний допрос, во время которого на голове и лице о. Аифала появилась большая рана от удара, видимо, нагайкой.
В 12 часов ночи на берегу красноармейцы развели большой костер. Раздалась команда: «Суровцев и комиссар (Временного правительства Северной области Иоанн Козлов. — Прим. В.Ф.), выходите!» Сначала на край палубы поставили о. Аифала — раздался залп, и батюшка упал в воду. Затем расстреляли И. Козлова. По свидетельствам очевидцев, перед расстрелом красноармейцы у каждого из них отрезали язык, нос и уши. Отец Аифал впадал в обморок, чтобы привести его в чувство, истязатели обливали батюшку водой. Тело мученика о. Аифала Суровцева до весны 1919 года не было найдено, и найдено ли было впоследствии, пока документально не подтверждено.
На Пинеге похоже себя вёл Особый отряд 6-й армии под командованием Алексея Шенникова: «священник Ваймушского прихода отец Михаил Шангин был арестован якобы за непризнание советской власти по доносу местных большевиков. Щенников при допросе сам лично отстегал отца Михаила и в камеру сопровождал пинками, что видели наши арестованные крестьяне. Через неделю священник Шангин был освобожден. Вскоре он уплатил пеню в пользу большевиков в 2000 рублей. Но этого показалось мало, красноармейцы пришли к нему в дом, взяли тушу мяса, по нынешним ценам на 1500 рублей, а чтобы не возмущался, его закололи. А матушку его избили кнутом».
Такие примеры можно приводить очень долго. Сейчас же хочется отметить одну особенность действий этой власти: наибольшая ярость её проявлялась в местах особой святости России – в монастырях.
В сентябре 1918 года в Николаевский Коряжемский монастырь пришли красноармейцы и потребовали от имени новой власти открыть им все кладовые. Напрасно монахи убеждали их, что это противозаконно: церковь отделена от государства. Их возражения были расценены как саботаж, и 30 сентября находившийся здесь архимандрит Сольвычегодского Введенского монастыря Феодосий (Соболев), архимандрит Николаевского Коряжемского монастыря Павел (Моисеев), иеромонахи Никодим (Щапков), Серафим (Кулаков) и архангельский купец Павел Ганичев были расстреляны.
В 2005 году Священным Синодом Русской Православной Церкви два архимандрита и два иеромонаха, расстрелянные в Коряжемском монастыре в 1918 году, были включены в Собор новомучеников и исповедников Российских.
Напомним, что 2 августа 1918 года в Архангельске возник белогвардейский мятеж, через день высадились войска интервентов. Дальше всего им удалось продвинуться по Северной Двине и Ваге. Английско-французко-американский экспедиционный корпус занял Шенкурск. Наиболее полно об этом может рассказать краевед Роман Петров, председатель приходского совета емецкого прихода. На его работу мы и ссылаемся.
«В январе 1919 года войска красной армии с трёх сторон стали наступать на Шенкурск и через шесть дней боев, в ночь на 25 января, американцы и белогвардейцы, опасаясь попасть в окружение, оставили город, отступив на север. Большевики захватили ключевые позиции в Шенкурском уезде — снова началось установление советской власти. С 25 января (н. ст.) 1919 года в Шенкурском женском монастыре (да и во всех городских церквях) богослужения запрещены. В игуменском корпусе монастыря разместился штаб Красной армии. Игуменья Рафаила переселилась в каменный корпус при монастырской Зосимовской церкви. Проводить службы в городском соборе разрешили только с 9 февраля, но колокольный звон оставался под запретом, власти грозили арестом всего соборного причта. В это время проводилась расправа с населением, которое сотрудничало с белой армией. Только за одну неделю было расстреляно 48 человек.
В эту категорию входило и духовенство. Так, старший священник Свято-Троицкого женского монастыря протоиерей Николай Иванович Попов был приговорен к расстрелу. В местной газете от 8 февраля (н. ст.) 1919 года опубликован приговор, вынесенный отцу Николаю: «Священника женского монастыря Николая Попова, позволившего себе кафедру проповедника использовать для политической агитации, молившегося в церкви за насильников англо-американцев и всуе призывавшего благословение церкви на иностранных захватчиков, и как предателя социалистического отечества и изменившего Советской России – расстрелять. Приведено в исполнение 5 февраля в 20 часов».
Его сын, тоже священник, Василий Попов, получив из Шенкурска известие о расстреле горячо любимого им отца, записал в своем дневнике: «Не дрогнуло мое сердце, получив тягостную весть. Наоборот: возрадовался я духом тому, что Господь ниспослал дорогому папе венец мученический. Как древние христиане считали за счастье, если их родители или родственники кончали жизнь в мучениях за веру, и с гордостью говорили некоторые из них: «я сын мученика!» — так ныне с гордостью могу и я заявить: «я — сын священномученика».
Аналогичная история случилась и в Холмогорах, где протестующий против захвата священник Успенского женского монастыря Василий Фирсов так же был объявлен изменником и расстрелян.
Не полагаясь на свою память, прибегну к цитированию работы Веры Фофановой:
Постановлением Архангельского Епархиального Совета от 27 февраля 1919 года, во исполнение Указа Святейшего Патриарха и Священного Синода, днями всенародного покаяния для г. Архангельска были назначены: четверг, пятница и суббота второй недели Великого поста (соответственно 13 – 15 марта1919 г.). Последний день (15 марта) посвящался заупокойному служению (Великой панихиде) о рабах Божиих — за Веру и Церковь Православную убиенных. После окончания дней покаяния, в воскресение (16 марта) должен был состояться крестный ход с молебном. Всем приходам г. Архангельска был препровожден список рабов Божиих, “за Веру и Церковь убиенных.” Среди убиенных по Архангельской епархии значились:
- прот. Аифал (Суровцев)
- свящ. Михаил (Шангин)
- свящ.Николай (Прялухин)
- иеромонах Арсений (настоятель Кожеозерского монастыря)
- иеродиакон Пантелеймон (Кожеозерского монастыря)
- монах Иоанникий (Кожеозерского монастыря)
- монах Илия (Кожеозерского монастыря)
- послушник Михаил Черепанов (Кожеозерского монастыря)
- псаломщик Афанасий Смирнов
- псаломщик Петр Павловский.
Потаённые Соловки.
Однако вернёмся в Архангельск, к комиссии Михаила Кедрова. После своего возвращения он, посланник Ленина, председатель ГубЧК, становится главным действующим лицом. Кедров прекрасно понимал, что ему не справиться с городом и губернией, пока рядом Соловки, ему не подчиняющиеся. Поэтому, как только стало возможно, он плывёт туда, арестовывает под надуманным предлогом архимандрита Вениамина и вместе с казначеем монастыря иеромонахом Никифором отправляет в Холмогорский концентрационный лагерь.
В советские времена про архимандрита Вениамина, последнего настоятеля Соловецкого монастыря, ходило немало слухов: «Какой он мученик? Бросил братию, не поладил с местным населением и погиб – чуть ли не в пьяной драке». Статья московского журналиста Столярова была как луч прожектора, высветившего правду в море лжи. Потом были другие публикации, но их авторы плохо знали наши места и не задавались вопросом – а почему, собственно, Волкозеро? Почему архимандрит выбрал местом поселения мало приметное озеро в лявленских лесах?
Начать следует с того, что в январе 1919-го года в избушку на Сумозере, пряча от белых, привезли комиссара финансов Архангельского губисполкома П.М.Медведкова. Комиссаром он был недолго – до приезда в Архангельск комиссии Кедрова, который, как известно, разогнал небольшевицкий Совет.
Павел Михайлович, кстати, уроженец деревни Зачапино, был болен тифом и лежал без памяти. Ухаживал за ним «высокий старик с большим крестом на груди, какие любили носить старообрядцы». Когда комиссар более или менее поправился и смог обряжать себя сам, старик ушёл.
Надо сказать, что на этом месте до 1902 года стоял Сумозерский старообрядческий скит. Скит лявленские мужики сожгли, но через шестнадцать лет здесь опять стоит избушка, кто-то живёт. Павел Михайлович пытался узнать имя хозяина и своего спасителя, но не смог, а избушку сфотографировал уже потом – через несколько лет, будучи в этих местах на охоте.
Прячась в избушке, Павел Михайлович придумал, как сплавлять лес по малым речкам и, следовательно, рубить его не только вдоль Северной Двины, но и в тайболе.
В 1920 году его назначают организатором Нижнедвинского сплавного района. Но вот беда – местные жители не хотели работать в лесу. За готовую шпалу на устье Лявли (то есть надо свалить дерево в лесу, окорить его, отесать на четыре канта по стандарту, доставить к берегу Двины) он платил рубль. За то, чтобы отвести корову-походницу от пункта передержки скота в доме старика Багрецова в Трепузово до такого же пункта в доме Кривоноговых в Уйме, на Устьянской, ребятня тоже получала рубль.
Рабочие появились у Павла Михайловича в 1923-ем году.
Но хватит отступлений, пора и к делу, т.е. к рассказу об архимандрите Вениамине. В этом нам поможет матушка Евфимия, мы будем цитировать её работу «Трагедия на Волкозеро»:
Преподобномученик Вениамин был последним настоятелем Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря до закрытия его Советской властью в 1920 году. Он родился в 1869 г. в Шенкурском уезде, в семье крестьянина. В 1893 году Василий Васильевич Кононов (так звали будущего преподобномученика в миру), покинув родительский дом, отправился в Соловецкий монастырь, где три года был трудником. В 1897 году он стал послушником этого монастыря. В течение шести лет проходил череду послушаний: старостой в хлебопекарне, заведующим расходческой лавкой.
О его духовном возрастании в этот период могут свидетельствовать строки из послужного списка. Вот какая характеристика давалась послушнику Василию: «Очень благонравен, послушен и верен, с большими задатками к внутреннему самоуглублению и духовной деятельности».
В 1903 г. послушник Василий был пострижен в монахи, получив при этом имя Вениамин. В 1905 г. рукоположен в сан иеродиакона, а в 1908 г. – в сан иеромонаха. Одновременно со служением в храме он проходил и другие послушания: состоял законоучителем братского училища, приставником при святых мощах преподобных Зосимы и Савватия.
В 1909 г., после кончины монастырского духовника, иеромонаха Дамаскина, новым Духовником Соловецкой обители был избран иеромонах Вениамин.
В 1912 г., после девятнадцатилетнего пребывания в Соловецком монастыре, отец Вениамин назначается на должность настоятеля Антониево-Сийского монастыря с возведением в сан архимандрита. А в августе 1918 года архимандрит Вениамин становится настоятелем монастыря, где начиналась его иноческая жизнь, – Соловецкой обители.
Жизнь в северных монастырях перед революцией и после нее была отнюдь не спокойной и безмятежной. Революционные идеи легко увлекали часть насельников и насельниц обителей, не всегда отличавшихся духовной стойкостью. Так, в 1912 г. в женском Сурском монастыре «монахини, забыв иноческий обет, водили знакомство с ссыльными, пели революционные песни». Ряд послушниц отказывались повиноваться настоятельнице, игумений Порфирии, за что были изгнаны из монастыря. Сейчас в это трудно поверить. Но все было. Впоследствии, в декабре 1920 г., сурские монахини на горьком опыте убедились в лживости революционных лозунгов и идей. Ибо в декабре того самого года их монастырь был закрыт, а сами они в зимнюю стужу изгнаны оттуда.
Нечто подобное пришлось пережить и Соловецкому монастырю, где летом 1918 года объявилась группа «красных монахов», бывших матросов с броненосца «Потёмкин». Однако архимандриту Вениамину удалось восстановить внутренний порядок. Монахи-бунтовщики покинули архипелаг.
В 1920 году, спустя месяц после взятия Архангельска частями Красной Армии, на Соловки прибыла Особая комиссия Губревкома, начались обыски и ограбления монастыря, вывоз ценностей, которые удалось обнаружить, запасов продовольствия. В том же году архимандрит Вениамин и его ближайший помощник иеромонах Никифор (Кучин) были арестованы и отправлены на принудительные работы в Холмогоры, в только что организованный там концентрационный лагерь. Они пробыли там два года, пребывая, по выражению одного из страстотерпцев того времени, «во узах и горьких работах». Однако, Господь по неведомым судьбам Своим не благоволил ему принять мученический венец в Холмогорском концлагере. Это произошло позднее.
После двух лет лагерных мытарств архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор были освобождены. К этому времени Соловецкий монастырь уже упразднили, а через год, в 1923 г., превратили в концлагерь. Поэтому бывшие насельники разоренной обители приехали в Архангельск. Одно время жили они на Соловецком подворье, а затем по 17 июня 1926 г. им давал приют архангельский фармацевт Александр Алексеевич Левичев. Православный хозяин денег с монахов не брал, жили они на пожертвования, присылаемые духовными детьми архимандрита. Однако архимандрит Вениамин, пытаясь «устроить монастырскую жизнь заново», покинул Архангельск. По совету бывшего послушника Соловецкого монастыря Степана Маркеловича Антонова, летом 1926 г. монахи переехали в село Часовенское Архангельской области к сестре Степана Анне Антоновой, и этим же летом Степан Маркелович и другой бывший насельник Гулин Прокопий Ульянович соорудили для них в глухом лесу небольшую избу на расстоянии сорока верст от ближайшего населенного пункта — деревни Коровкинской.
К тому времени у П.М. Медведкова появились работники: 2 августа 1923 года Губисполком принимает решение о срочной высылке с островов всех соловецких монахов. С собой они несли эту икону «Всех скорбящих Радость» и Евангелие. К концу тридцатых годов они все погибли на лесоповале, а сделанное уже на Кельдозере распятие и Евангелие на самодельном аналое охотники видели даже в начале шестидесятых. Икону перед войной кто-то вынес в Косково. После долгих странствий икона оказалась в лявленской церкви Успения Пресвятой Богородицы.
Медведков хорошо знал расположение лявленских староверческих скитов. Именно в них он селит высланных монахов, и не только соловецких. Тесно? – стройтесь! И монахи строили бараки – надёжно, качественно. Бараки послужили не только им, но и администрации «Кулойлага» (о нём речь далее), а в лагере «Юрки» в их бараках располагался, и не плохо располагался даже в шестидесятые годы, лагерь для особо важных уголовников. Голодно? – рубите лес! Много нарубите, сплотите, сплавите по весне к Северной Двине – привезём много хлеба, остальное лес даст. Мало нарубите – так в газетах пишут, что вы, монахи, – враги трудового народа. Так объяснив суть текущего момента, конвой оставлял монахов (монахинь, священников) одних, но побегов не было, хотя некоторые командировки, например «Полевая», располагались в нескольких километрах от Двины. Удивительно другое – как рубили бараки монахини на Боровских озёрах? С тридцатых годов их всё чаще называют бабскими, а переднее озеро и сейчас зовут «озером женских слёз».
Архангельск превращался во всесоюзную лесопилку. По лявленскому зимнику два-три этапа в неделю уходили в лес, назад, естественно, никто не возвращался. Одним за другим возникают Конецгорский, Лявленский, Бобровский, Косковский, Вайновский лесопункты, принимающие лес у Нижнедвинского лесопромышленного предприятия, но правильнее говорить, у УСЕВЛОНа.
Но были и вольные поселенцы в тайге: на Лодьмозере сели соловецкие монахи Алипий и Гедеон, пришедшие туда вслед за Вениамином, на Колозьме в четырех избушках жили ещё несколько монахов. Мы не знаем их имён, это тем более стыдно, что когда при организации Кулойлага их оттуда выгнали, двое из них доживали свой век в Лявле, в бывшей бане на краю Новинок.
В 1925 году в Сумозерском лагере случилась авария. Лес, предназначенный для сплава, плотился в конце длинного Сумозера, весной его надо было с помощью лебёдки подтягивать к плотине, которой искусственно поднимался уровень воды в озере.
Рабочие плохо закрепили лебёдку, она опрокинулась и утонула. Большую воду опустили, а П.М. Медведкова отдали под суд за халатность. Правда, через год его оправдали, но до конца своей жизни он болел, может быть, сказались и перенесённые тиф и цинга. Мало-помалу его все забыли, слава первоначальника ГУЛАГа досталась другому. Однако вернёмся на Волкозеро.
Здесь помещена карта основного лесозаготовительного района УСЕВЛОНа в двадцатые годы. Антонов и Гулин построили скит для Вениамина и Никифора в центре его не случайно. От скита до Лодьмозера четырнадцать километров, до Кельдозера – двадцать три, до Семиозерья – семь, до женского лагеря – десять. Выше по карте, на водоразделе речки Кулой и Северной Двины, ещё множество командировок и подкомандировок, ниже – то же. Надо думать, скит на Волкозеро посещал не только Степан Маркелович Антонов. НКВД искало «высокую сутулую монахиню», но то, что архимандрит сам пришёл к своей братии, что ему удалось воссоздать в тайге «потаённые Соловки», в этом ведомстве даже не поняли.
Жизнь архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора проходила подобно жизни пустынников прошлого, «в молитвах и постоянных трудах». Они ловили рыбу, выращивали овощи, которыми и питались. Обстановка их лесной кельи была бедной и убогой. Единственные «ценности» — самовар, кофейник да еще настольные часы. В лесной глуши, вдали от людей, изгнанники-монахи прожили три года. В апреле 1928 года, накануне праздника Пасхи, два молодых человека, местный не совсем нормальный Степан Ярыгин и Владимир Иванов, пришлый комсомолец, решили ограбить монахов. Ради этого злодеи готовы были на убийство беззащитных людей. Вооружившись винтовкой и ножом-штыком, они направились в лес.
Шел вторник Светлой седмицы. Архимандрит Вениамин и иеромонах Никифор совершали праздничное вечернее богослужение. Возможно, что до ожидавших наступления ночи убийц доносились звуки Пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». . .
Когда совсем стемнело, Иванов и его сообщник подошли к избушке и начали через окна стрелять в монахов. Стрелял Иванов. Однако ограбить избушку не смогли: обуял страх. Они так и не посмели войти в келью. Забрались только на чердак, где прихватили кое-какие немудрящие вещи убитых монахов, а также керосин. Они облили избушку снаружи, а затем подожгли. В это время мученики-иноки были еще живы: на следствии Иванов говорил, что слышал их крики.
Придя в очередной раз проведать отшельников, Степан Маркелович Антонов обнаружил два обгорелых скелета и похоронил их. Но он заставил милицию провести следствие – убийцы были наказаны.
Так, мученическим венцом завершилась земная жизнь последнего архимандрита Соловецкого монастыря, преподобномученика Вениамина и его верного ученика Никифора, которые удостоились «ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него».
На Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви от 13 – 16 августа 2000 г. священномученики Вениамин и Никифор были причислены к сонму новомучеников и исповедников Российских, но нам нужно вернуться в Архангельск двадцатых годов.
Холмогорский и Пертоминский концентрационные лагеря
Сказать, что город страдал от расстрелов, значит ничего не сказать. Он, казалось, задохнулся оттого, что принесли красные на своих штыках. Такого ещё не было на Руси.
Сейчас мы резко усилим пафос повествования. Может быть, вам покажется, что здесь мы сгущаем краски, преувеличиваем жестокость палачей, но мы приводим не выдуманные свидетельства. Мы опираемся на труды серьёзных исследователей – С.П. Мельгунова, С.А. Мальсагова, В.С. Малаховского, наших архангельских Татьяны Мельник и Юрия Дойкова.
Военный историк B.C. Малаховский на основе доступных ему архивных данных установил, что за полтора года жертвами красного террора стало 25 640 жителей Архангельской губернии.
Сергей Петрович Мельгунов в своей книге «Красный террор» со ссылкой на корреспондентов «Революционной России» сообщает, что вскоре после ухода из Архангельска английских войск и после «торжественных похорон пустых красных гробов» начался такой террор, что город «стонал целое лето», стал «городом мертвых». Автор сообщает, что «в первую очередь» было убито в апреле 1920 г. 800 офицеров, которые не успели уехать в Лондон по Мурманской железной дороге (как предлагало им правительство Миллера, уходившее из Архангельска на ледоколе).
Юрий Всеволодович Дойков в фондах бывшего областного партийного архива выявил списки расстрелянных. С указанием чинов, должностей и других данных значится 2028 фамилий.
В Архангельске офицеров арестовывали под видом обязательной их регистрации в советских органах. Прием с регистрацией один к одному, повторялся позднее на Дону, на Кубани, в Крыму, в Туркестане. Об этом пишет С.П. Мельгунов: «Объявляется регистрация или перерегистрация для бывших офицеров, или для каких-либо категорий, служивших у белых. Не предвидя и не ожидая ничего плохого, люди, проявившие свою лояльность, идут регистрироваться, а их схватывают, в чем они явились, немедленно загоняют в вагоны и везут в Архангельские лагеря. В летних костюмчиках из Кубани или Крыма, без полотенца, без кусочка мыла, без смены белья, грязные, завшивленные, попадают они в архангельский климат с очень проблематическими надеждами на возможность не только получить белье и теплую одежду, но и просто известить близких о своем местонахождении... Из длинного списка офицеров, по официальным сведениям отправленных на север, никогда нельзя было найти местопребывания ни одного. Ив частных беседах представители ЧК откровенно говорили, что их нет уже в живых...»
Старинный северный уездный город Холмогоры С.П. Мельгунов называет в своей книге «усыпальницей» русской молодежи, а расстрелы — формой «сокрытой смертной казни». Автор пишет: «Кто туда попадает, оттуда не возвращается, ибо в огромном большинстве случаев, они бывают расстреляны». Расстрелы под Холмогорами он называет «самыми главными», то есть самыми массовыми в России. По словам автора, расстреливали партиями по 10-100 человек в десяти верстах от Холмогор, «лицу, специально ездившему для нелегального обследования положения заключенных на Севере, жители окружных деревень назвали жуткую цифру 8000 таким образом погибших». Упоминается и день «красной расправы в Холмогорах» в сентябре 1920 г., когда было расстреляно более 200 человек из крестьян и казаков с юга, «интеллигентов почти уже не расстреливают, их мало».
Ю.В. Дойков в своих публикациях сообщает, что часть офицеров расстреляна в Архангельске на Мхах, а остальных в августе 1920 г. увезли на двух баржах вверх по Северной Двине под Холмогоры. Людей с первой баржи высадили на остров Ельники, что напротив Верхней Койдокурьи, заставили выкопать себе могилы и расстреляли из пулеметов. На второй барже народ взбунтовался и стал прыгать в воду в надежде спастись вплавь, но избежать расстрела было невозможно.
(Мне кажется, здесь уместно вспомнить, что пришлось вытерпеть самому Юрию Всеволодовичу от противников этих публикаций –Н.С.)
С.П. Мельгунов указывает на организаторов расстрелов под Холмогорами весной и летом 1920 г. — чету Кедровых. Со ссылкой на корреспондента «Воля России» (1920 г., номер 14), он пишет, что Кедров, собрав в Архангельске 1200 офицеров, «сажает их на баржу вблизи Холмогор и затем по ним открывает огонь из пулеметов до 600 было перебито!». Со ссылкой на корреспондента «Голос Рев. России» (1922 г., 25 марта) автор пишет, что именно жена Кедрова настояла на возвращении из Москвы всех арестованных комиссией Эйдука, и «их по частям увозят на пароходе в Холмогоры, где, раздевши, убивают их на баржах и топят».
Нет сомнения, что в тех расстрелах сгинул в неизвестность офицер Владимир Минейко, 22 лет. О нем оставила воспоминания его сестра Ксения Петровна Гемп, почетный гражданин Архангельска.
По ее словам, брата арестовали в июне 1920 г. на Пинеге, когда белых офицеров «собирали» в районе боев. Их увезли в московские Бутырки, но там вспыхнула эпидемия сыпняка. Часть офицеров расстреляли, а другую — отправили в Архангельск, причем без провизии и воды. По прибытии в Исакогорку арестанты бросились к реке, но был дан приказ «стрелять по ногам». Раненых оставили на станции, а основную массу переправили через Северную Двину в город. Два дня, обессиленные, они лежали вповалку на пристани у холодильника. Когда их уводили из города, Ксения, как и другие провожавшие, пыталась передать брату еду. Но конвоиры не позволили, более того, начальник конвоя Валюшис сорвал с руки Ксении обручальное кольцо, а у бабушки снял серьги. Офицеров на двух речных пароходах и баржах увезли в Холмогоры и там расстреляли. Трупы скидывали в реку или зарывали. По словам К. Гемп, в район Холмогор спустя лет пятнадцать приезжали на практику студенты с преподавателями из Архангельского мединститута, собирали скелеты, нужные для медпрактики.
В Холмогорах и окрестностях расстреливали не только тех, кто оказался или был захвачен на Севере. Созерко Артаганович Мальсагов в своей книге «Адские острова» расширяет список: «После поражения генерала Деникина и Врангеля (соответственно в конце 1919-го и в 1920-х гг.) взятые в плен белые офицеры и солдаты, а также гражданские лица с отвоеванных у белых территорий — мужчины, женщины и дети — ссылались в Холмогоры этап за этапом. А после подавления Кронштадтского восстания в апреле 1921 г. все матросы, взятые под стражу большевиками в количестве около 2000 человек, тоже были присланы туда. Остатки колчаковской армии, различные сибирские и украинские атаманы, крестьяне из Тамбовской губернии, примкнувшие к антоновскому движению, десятки тысяч представителей интеллигенции всех национальностей и вероисповеданий, кубанские и донские казаки — все стекались широким потоком в Холмогоры и Пертоминск». Именно в этих населенных пунктах Архангельской губернии и были организованы для «врагов революции» лагеря принудительных работ, куда ЧК направляла «с особой охотой и жестокостью».
Лагерь дислоцировался в южной части Холмогор на территории Успенского женского монастыря и соборного комплекса, отделение — в бывшем монастырском скиту в деревне Товра. Комендантом лагеря «для пользы службы» назначен 20 июня 1921 г. сотрудник 1-го разряда секретно-оперативного отдела АрхгубЧК Бачулис.
Об этом коменданте С.П. Мельгунов пишет со слов человека, который (когда слухи о «лагере смерти» дошли до Москвы) специально ездил на далекий Север, чтобы выяснить, как помочь несчастным людям: «В бытность комендантом Бачулиса, человека крайне жестокого, немало людей было расстреляно за ничтожнейшие провинности. Про него рассказывают жуткие вещи. Говорят, будто он разделял заключенных на десятки и за провинность одного наказывал весь десяток».
Условия содержания заключенных описаны С.А. Мальсаговым, на себе испытавшим их: «Люди направлялись туда из всех уголков России и должны были жить в наскоро выстроенных бараках. Это были никогда не отапливаемые, даже в самую сильную зимнюю стужу, помещения (когда температура в этих северных широтах снижалась до -50°, -60° по Цельсию, от 90—110° по Фаренгейту). Заключенным выдавался следующий паек: одна картофелина на завтрак, картофельные очистки, сваренные в воде, на обед и одна картофелина на ужин. Ни кусочка хлеба, ни унции сахара, не говоря уже о мясе или масле. И эти люди, доведенные муками голода до отчаяния, поедали кору на деревьях. Они вынуждены были из-за пыток и расстрелов соглашаться выполнять самую тяжелую работу: корчевать пни, работать в каменоломнях, сплавлять лес. Им было категорически запрещено переписываться со своими родными или получать от них посылки с едой или одеждой. Все письма уничтожались. А пища и прочее пожирались и использовались лагерной охраной». Автор пишет, что, если новоприбывший был прилично одет, его расстреливали тут же, чтобы поскорее забрать одежду. Тех, кто избежал расстрела, чекисты уничтожали непосильным трудом. Когда заключенных вели на работу мимо жилых домов, то местные бросали им хлеб. Чекисты изменили маршрут, стали водить колонны через густой лес и болота. За мизерный паек женщины и старики работали по двенадцать часов, найти в поле гнилой картофель было большой удачей, его с жадностью сырым поедали на месте.
По словам С.А. Мальсагова, «высшее начальство в этих лагерях назначалось Москвой и исполняло предписания, полученные оттуда. Средний и низший персонал состоял из арестованных чекистов, которые были сосланы по причине слишком очевидного грабежа, взяточничества, пьянства и других нарушений. Эти ребята, потеряв выгодные должности в Чрезвычайных комиссиях центральной России, свою неимоверную злость с неописуемой жестокостью вымещали на лагерных заключенных». Особенно свирепствовал помощник коменданта лагеря поляк Квициньский, на совести которого «ужасы» «Белого дома» (бывшего имения в окрестностях Холмогор, покинутого владельцами). По распоряжению этого палача-садиста в доме с 1920 г. и до конца 1922 г. ежедневно расстреливали людей, тела казненных не убирали. За два года трупами были наполнены все помещения до самого потолка. Запах разложившихся тел отравлял воздух на целые километры вокруг. Смрад, который не уменьшался ни днем, ни ночью, заставлял заключенных в лагере задыхаться и даже терять сознание. Три четверти жителей города Холмогоры оказались не в состоянии вынести все это и покинули свои дома».
Этот дом упоминает в своей книге и С.П. Мельгунов.
Из книги С.А. Мальсагова известно о разных методах уничтожения заключенных, которые практиковали чекисты. Например, когда прибывала новая большая партия, и появлялась острая необходимость в камерах, «они входили к заключенным и, указывая на будущие жертвы, произносили: один, два, три. «Один» значило, что заключенный будет расстрелян в тот же день, «два» — его расстреляют завтра, «три» —казнят послезавтра.
Около 10 000 человек были расстреляны в Холмогорах и Пертоминске. Как это ни ужасно, но в этой цифре нет ничего поразительного. Ибо в течение трех лет подряд до своего расформирования эти лагеря составляли главную тюрьму всей Советской России. В 1921 г. 4000 бывших офицеров и солдат армии Врангеля были погружены на баржи, и их чекисты потопили в устье Двины. Те, которые были еще в состоянии удержаться на поверхности воды, были расстреляны. В 1922 г. несколько барж загрузили заключенными, которых потопили в Двине прямо на глазах у всех».
Видимо, речь идёт о тех баржах, лежащих на дне Бабонеговской ямы, о которых рассказывают старожилы в пригородных деревнях.
У К. Гемп под Холмогорами расстрелян брат, а мама Надежда Михайловна Минейко (выпускница Петербургской консерватории и ученица Римского-Корсакова) «за то, что играла на «фортепьянах», вместо того, чтобы идти служить народу, была посажена в Холмогорский лагерь принудработ, сгинула от тифа в 1921 г.».
В начале лета 1922 г. (когда чекисты уничтожили уже 90 процентов всех заключенных) из Холмогор сбежал один кронштадтский матрос. Ему удалось добраться до Москвы и по старым связям добиться приема во ВЦИКе. Матрос сказал Калинину: «Делайте со мной, что хотите, но обратите внимание на те ужасы, которые творятся в советских лагерях». Мольбы матроса выслушали снисходительно, но комиссию в Холмогоры все-таки направили.
Это была комиссия во главе с Фельдманом. От увиденного и услышанного Фельдман пришел в ужас. Он расстрелял коменданта лагеря, а помощников и прочий персонал отправил для расследования в столицу (но все чекисты были помилованы и получили ответственные должности в учреждениях ГПУ в южной России). Фельдман, понимая, что «белый дом» и десятки тысяч трупов - это «груз на совести Москвы», распорядился все сжечь.
Но следы преступлений находят до сих пор. Так, в октябре 2006 г. на территории Успенского монастыря в ходе работ по прокладке кабеля была обнаружена братская могила с останками, понадобилось 18 мешков, чтобы перевезти останки к месту перезахоронения. В большем количестве были обнаружены останки в 1980-х гг., тогда с трудом хватило двух телег, чтобы вывезти их и захоронить.
Несколько лет назад, когда прокладывался газопровод в Архангельск, его строителям пришлось прорыть канал через весь остров Ельничный от Койдокурьи до Ценовца. Они трижды наталкивались на захоронения – человеческими костями забивались сопла землеснарядов.
Здесь уместно рассказать ещё один случай. Однажды Виктор Корельский, житель деревни Вайново, рыбачил с дядей на Ельничном. Увидел в воде дощечку, хотел бросить её в костёр, но дядя остановил – нельзя, это же икона. Видимо, кто-то из расстрелянных на острове нёс с собой икону. Живопись за пятьдесят лет пропала, когда Виктор подарил доску лявленской церкви, она была голой. Даже левкас не сохранился. Но через полгода появилось какое-то изображение. Ещё через полгода фотоаппарат «увидел» икону – великомученицу Варвару!
Ещё более жутким лагерем был Пертоминск, который находится на восточном берегу Унской губы Белого моря в ста восемнадцати верстах от Архангельска. С начала XVII в. там действовал Преображенский крестный мужской монастырь.
Пертоминский ЛПР негласно использовался в качестве штрафного изолятора для заключенных других северных лагерей ГубЧК. Из книги С.П.Мельгунова известно, что только «одно упоминание о Пертоминске заставляет трепетать холмогорских заключенных — для них оно равносильно смертному приговору... Об условиях жизни заключенных сам по себе свидетельствует такой поразительный факт, что на 1200 заключенных за полгода приходится 442 смерти!...»
Знало ли правительство о том, что происходит в северных лагерях? На этот вопрос отвечает в своей книге С.А. Мальсагов: «без всякого сомнения», что знало, «не могло не знать! Но, будучи заинтересованным в безжалостном уничтожении своих врагов, подлинных и мнимых, руководители Коммунистической партии ограничились лишь умыванием рук
В бывшем Центральном партийном архиве хранится немало документов о положении на Севере в начале 1920-х гг. Одно из писем написано на имя председателя СНК в сентябре 1921 г. «сочувствующим идейному социализму» Степановым:
«Многоуважаемый тов. Ленин В.И.
Известно ли Вам о творимых безобразиях на Севере, которые как раз дают обратные результаты в укреплении социалистического строя. Совершенные же преступления на Севере Вашим уполномоченным Михаилом Кедровым, его сподвижником бывшим председателем АрхЧК Смирновым останутся вековым памятником и укором в истории советского строительства. Таковой памятник неизбежно будет на острове Ельники в верстах 70 от Архангельска, где зверски расстреляны привезенные на баржах из Холмогорского лагеря, Москвы и Кубани беззащитные люди, свыше 7000 граждан, из пулеметов, голодных, истерзанных, большинство из которых люди образованные, могущие принести своему отечеству в строительстве лишь пользу. Известно ли Вам, что вместо бывшего древнего Холмогорского женского монастыря учрежден концентрационный лагерь, где люди мрут от голода и холода... Пора одуматься. Довольно крови, горя и сирот... Товарищи, остановитесь. Дайте Северу вздохнуть».
Дали! В 1922 г. распоряжением СНК от 25 июля все места заключения в РСФСР были переданы в ведение НКВД. Советское государство приступило к обкатке новой политэкономической модели своего развития: отныне идеологическим противникам (или тем, кого власть считала таковыми) – не только находиться в строгой изоляции, но и укреплять ее экономику. Потому был создан первый отечественный концлагерь – Соловецкий. Этот концлагерь – а именно так в партийных и чекистских документах до начала 30-х назывались подобные учреждения – явился прообразом «архипелага ГУЛАГ».
Соловки. Начало.
(Мы переходим ко второму разделу нашей экспозиции – Соловкам. Следующие девять стендов подарены нашему музею Соловецким Спасо-Преображенским монастырём.)
В июне 1923 года состоялась передача Соловецких островов Управлению северными лагерями ОГПУ, приступившиму к постепенной ликвидации лагерей в Архангельске, Холмогорах и Пертоминске и переводу их на Соловки. 7 июня на острова прибыла первая партия заключенных, а 13 октября 1923 года Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление об организации Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения и двух пересыльно-распределительных пунктов в г. Архангельске и Кеми.
Лагерю были переданы все постройки и угодья монастыря, принято решение: «признать необходимым ликвидацию всех находящихся в Соловецком монастыре церквей, считать возможным использование церковных зданий для жилья, считаясь с остротой жилищного положения на острове». Вначале все заключенные мужчины содержались на территории монастыря, а женщины – в монастырской Архангельской гостинице, но число заключенных быстро росло, и уже вскоре были заняты все монастырские скиты и тони.
Собственно, идея «модернизации народного хозяйства» за счет рабского труда родилась у большевистского руководства еще раньше, едва только закончилась гражданская война и были потоплены в крови Кронштадтское восстание и Антоновский крестьянский мятеж. И политическое руководство в лице Совета народных комиссаров, возглавляемое Владимиром Лениным, обратилось за разработкой практической стороны вопроса к ВЧК, которая немедленно поддержала идею.
Из записки уполномоченного по организации и устройству лагерей ВЧК Председателю ВЧК Ф.Э. Дзержинскому об устройстве Северных колоний ВЧК.
«Признать в принципе принудительную колонизацию малонаселенного и неэксплуатируемого северного края государственно важной и необходимой как с хозяйственно-экономической, так и административной точек зрения, почему углубить и расширить уже начатые в этой области работы по устройству рабочих поселков-колоний до максимума возможностей… Признать необходимыми соответственное усилие всех ресурсов к достижению вышеуказанных целей, не ограничивая численного состава колоний… Признать необходимым в ближайшее время, по мере возможности, начать колонизацию всего особо общественно-опасного элемента с территории Республики без ограничения срока, впредь до исправления…»
Напомним, что Владимир Ильич севернее Вологды не бывал, что не помешало ему заявить: «Всё, что севернее – дикость, полу-дикость, и самая настоящая дикость». Прививать нам цивилизацию «самый человечный человек» предлагал в форме тюрьмы.
В течение почти десяти лет Соловецкие лагеря были самыми крупными в СССР и играли роль «полигона», на котором отрабатывались методы каторжного содержания и способы использования принудительного труда больших контингентов заключенных. Соловки стали именем нарицательным, символом карательной системы: «В 20-е годы Соловков не таили, но даже уши прожужжали ими. Соловками открыто играли, Соловками открыто гордились (имели смелость гордиться!)», – писал Александр Солженицын.
Характерно, что документы, регламентирующие существование лагеря, писались «вдогонку» – Соловки с лета 1923 года уже были густонаселенной зоной, а «Положение о Соловецких лагерях особого назначения ОГПУ» появилось лишь в августе. Вот его первый, основополагающий, параграф: «Соловецкие лагеря принудительных работ особого назначения организованы ОГПУ для изоляции особо вредных государственных преступников, как уголовных, так и политических, деяния коих принесли или могут принести существенный ущерб спокойствию и целостности Союза Советских Социалистических Республик».
«Церкви и тюрьмы сровняем с землей», – пели в советское время. Первую часть этого обещания большевики, увы, выполнили со всей беспощадностью. Со второй ситуация была обратная: проблема «перенаселенности» мест заключения по мере борьбы с «врагами народа» становилась все актуальнее – тюрем не хватало. Между тем содержание одного тюремного сидельца обходилось казне в среднем в 250 руб. в год (на Соловках – в 211 руб.), и становилось бременем для государственного бюджета. Зампред ОГПУ Генрих Ягода был оптимистичен в отношении экономических перспектив репрессивной государственной политики: «Совершенно очевидно, что политика советской власти и строительство новых тюрем несовместимы. На новые тюрьмы никто денег не даст. Другое дело – постройка больших лагерей с рационально поставленным использованием труда в них… Опыт Соловков показывает, как много можно сделать в этом направлении (дороги, осушение болот, добыча рыбы заключенными, устройство питомников)». С созданием Соловков система принудительного труда стала базой «модернизации» советской экономики.
Мы можем и дальше следить за развитием коммунистической идеи, как сделать народ счастливым против его воли, это лучше делать в библиотеке, обложившись книгами, делая выписки…
Мы могли бы говорить об организации быта лагеря, поскольку Соловки были продолжением Холмогорского и Пертоминского лагерей, и ужасы «Секирной» не менее ужасны, чем ужасы «Белого дома», а злоба «вертухаев» соловецких была такой же, как злоба «вертухаев» «Кулойлага».Если нас интересует она, нам лучше бы ещё раз посмотреть «Холодное лето пятьдесят третьего» или «Судьбу человека». Злоба она и есть злоба. У нас же другая цель.
Соловки стали местом ссылки многих иерархов Русской Православной Церкви. Уже к концу 1925 года в лагере было около 140 представителей православного духовенства, около половины из них содержались в 1-м отделении, в Кремле, в шестой роте, которая располагалась в Святительском корпусе.
Авторитет заключённых на Соловках епископов был очень высок среди духовенства России, их голос был слышен далеко за пределами лагеря. Одним из выдающихся документов ГУЛАГа является «Памятная записка Соловецких епископов, представленная на усмотрение правительства».
Этот документ не был официальным голосом Русской Православной Церкви, но в это время совершенно совпадал с ним. Он вызвал широкий
резонанс и в нашей стране и за рубежом, горячо приветствовался всеми верующими.
В 1925 году скончался Святейший патриарх Тихон. Обновленческий раскол подрывал единство Церкви. На этом историческом фоне «Обращение» Соловецких узников прозвучало с особой силой. Это было мнение наиболее многочисленной группы епископата, собранной
вместе в заточении на Соловках и представлявшей собой малый собор многих епархий России, оно отражало общие условия жизни Церкви и общий
ее исповеднический дух. Документ преисполнен непоколебимой твердости во всем, что касается собственно церковной жизни, чужд и малой тени соглашательства, совершенно безбоязнен в свидетельстве правды и свободен в своем мнении.
«Обращение» отвечает высочайшему достоинству Церкви и ее вечному назначению. «Памятная записка» была принята в 1926 году в день Отдания Пасхи 9 июня. В это время на Соловках в заключении было 24 епископа, из них почти все непосредственно принимали её.Текст «Записка» был составлен профессором Московской Духовной Академии Иваном Васильевичем Поповым.
Сообщение с Соловками были, естественно, затруднены. Во первых, остров, во вторых – охрана, но всегда находились люди, готовые рисковать своим благополучием, но выполнять роль связного. Одной из них была Градислава Никаноровна Каннорская, вдова священника из Кеми. Белые документы, которые вы видите внизу стенда, взяты из обвинительного заключения по её делу.
Архиепископ Илларион.
Вы видите множество лиц. Мы не успеем рассказать о каждом. Подробная информация об этих людях – узниках Соловецкого лагеря есть на сайте Соловецкого монастыря. Мы же расскажем только о четырёх узниках.
Сначала об архиепископе Илларионе. Удивительно светлый был человек. Он участвовал в Соборе Русской Церкви 1917-18 годов. На Собор отец Илларион пришел с идеей необходимости восстановления патриаршества.
Сразу после избрания Патриарха архимандрит Илларион становится его секретарем и главным консультантом по богословским вопросам. Перед Патриархом стояла труднейшая задача сохранения Церкви. Во всех контактах с советской властью - при переговорах с Тучковым, начальником VI "церковного" отделения СО ГПУ, встречах с "революционным" духовенством и т. д. - святитель Илларион всегда находился под вражеским ударом, заслоняя собою Патриарха.
После декрета ВЦИК от февраля 1922 года об изъятии церковных ценностей, приведшего к народным волнениям, по стране покатился вал репрессий. В апреле 1922 года был арестован Патриарх Тихон.
Еще раньше, 22 марта, оказывается под арестом святитель Илларион, которому выпало на долю разделить крест с Патриархом. В июне он высылается на год из Москвы в Архангельск. (Об этом предлагаю поговорить чуть позже.) В июне 1923 года Патриарха Тихона освободили. Главным исполнителем воли Патриарха и его правой рукой стал Илларион, возведенный в архиепископский сан. Святитель еще не знал, что ему уготована участь Соловецкого узника..
15 ноября 1923 года архиепископ Илларион был арестован, а 7 декабря комиссия НКВД приговорила его к трем годам заключения на Соловках.
В январе 1924 года архиепископ прибыл на пересыльный пункт на Поповом острове. Здесь его застало известие о смерти Ленина. В то время, когда в Москве опускали в могилу гроб с телом Ленина, заключенные, по распоряжению лагерного начальства, должны были молча стоять пять минут. Владыка Илларион лежал на нарах, когда посреди барака стоял строй заключенных, среди которых были и священнослужители. "Встаньте: все-таки великий человек, да и влетит вам, если заметят", — убеждали его заключенные. Все кончилось, однако, благополучно, а Владыка, обращаясь к духовенству, сказал: "Подумайте, отцы, что ныне делается в аду: сам Ленин туда явился, бесам какое торжество".
В июне 1924 года после открытия навигации архиепископ Илларион был отправлен на Соловецкий остров; здесь он вязал сети на Филимоновской рыболовной тоне, был лесником, сторожем в Филипповой пустыни. На Филимоновской тоне в десяти километрах от главного Соловецкого лагеря он находился вместе с двумя епископами и несколькими священниками. Об этой своей работе он говорил добродушно: "Все подает Дух Святый: прежде рыбари богословцы показа, а теперь наоборот - богословцы рыбари показа". В лагере он сохранил монашескую нестяжательность, незлобивость и простоту. Он просто отдавал всем все, что у него просили. Ни на какие оскорбления окружающих никогда не отвечал, казалось, не замечая их. Он всегда был мирен и весел, и если даже что и тяготило его, он старался скрыть это за своим благодушием.
Процитирую Олега Волкова[1]. Из его книги «Погружение во тьму»: Он доступен был всем... с ним легко всем. Самая простая внешность - вот что такое был Владыка. Но за этой заурядной формой веселости можно было постепенно усмотреть детскую чистоту, великую духовную опытность, доброту и милосердие, это сладостное безразличие к материальным благам, истинную веру, подлинное благочестие, высокое нравственное совершенствование. Его обыкновенный вид скрывал от людей внутреннее делание и спасал его самого от лицемерия и тщеславия. Он был решительным врагом всякого лицемерия и показного благочестия. Каждого прибывавшего в Соловецкий лагерь священника Владыка подробно расспрашивал обо всех предшествовавших заключению обстоятельствах.
- За что же вас арестовали? - спросил Владыка прибывшего в лагерь игумена одного из монастырей.
- Да служил молебны у себя на дому, когда монастырь закрыли, - ответил тот, - ну, собирался народ, и даже бывали исцеления...
- Ах вот как, даже исцеления бывали... Сколько же вам дали Соловков?
- Три года.
- Ну, это мало, за исцеления надо бы дать больше, советская власть недосмотрела..."
Желая вовлечь архиепископа Иллариона в раскол, чекист Тучков распорядился перевезти его из Соловков в Ярославское ГПУ, предоставить ему отдельную камеру, возможность заниматься научной работой, вести деловую переписку и получать любые книги с воли, а тем временем попытаться уговорить его на сотрудничество с ГПУ. 5 июля 1925 года архиепископ Илларион был переведен из Соловецкого лагеря в ярославский политический изолятор. Оказавшись здесь, он писал своей родственнице: "Ты спрашиваешь, когда же кончатся мои мучения? Я отвечу так: мучений я не признаю и не мучаюсь. При моем "стаже" меня ведь тюрьмой не удивишь и не испугаешь. Я уже привык не сидеть в тюрьме, а жить в тюрьме, как ты живешь в своей квартире".
Тучков дважды приходил к архиепископу. Первый раз он пришел к нему в камеру, где беседовал о церковных делах и о церковной жизни «в настоящий момент». Во второй раз Тучков вызвал архиепископа в тюремную канцелярию и здесь снова завел разговор о церковных событиях последнего времени и предложил освободить архиепископа и возвратить на Московскую кафедру, но с условием, что он поддержит одну из групп духовенства — имелись в виду григорианцы. Все переговоры его с Владыкой не привели ни к чему. Высокопреосвященнейший был непримирим к обновленцам, отказался поддержать григорианский раскол, выставил требования, чтобы новое Церковное Управление непременно имело благословение Местоблюстителя, митрополита Петра, и чтобы в него вошли архиереи, которые имеют на это благословение самого Местоблюстителя.
У архиепископа Иллариона и Тучкова почти по всем пунктам были разные взгляды. Владыка предлагал государству и его представителям сотрудничать с Церковью, но на основании независимости Церкви, на основании духовной силы самой православной паствы, члены которой являются также и гражданами государства и, следовательно, составляют и его силу. Тучков требовал сотрудничества Церкви и ее иерархов на основе полного подчинения Церкви государству, что уронило бы авторитет церковных иерархов в глазах верующих и явилось бы самоуничтожением.
В конце концов, Тучков потребовал прямого сотрудничества и осведомительства, как если бы Владыка был одним из сотрудников ГПУ. Тучков желал прежде физического уничтожения своего врага уничтожить его нравственно. Архиепископ ответил на эти предложения резким, категорическим отказом. Видя, что погубить этого выдающегося иерарха не удается, Тучков зло сказал: "Приятно с умным человеком поговорить. А сколько вы имеете срока в Соловках? Три года?! Для Иллариона три года! Так мало?!"
26 февраля 1926 года архиепископа перевели из отдельной камеры в общую камеру тюрьмы в Коровниках. 15 марта Владыка писал родственнице о происшедших в его жизни переменах: "Удивительное дело! Никто меня к тюремному заключению не приговаривал, и все-таки я сижу в тюрьме, где сидят все по определенным судебным приговорам. Но... удивляться уже давно перестал. Только почему это все со мной такие фокусы происходят? Ведь никого во всей тюрьме нет без приговора, кроме меня. Все наши прочие спокойно живут в Соловках, а я вот уже на второе место перебираюсь. Что-то еще неожиданного преподнесет мне время?".
1 апреля архиепископу Иллариону стало определенно известно, что в ближайшие дни его отправят с этапом на Соловки. Узнав об этом, он писал родным: "Это переселение для меня, пожалуй, приятно. Ведь сидеть взаперти мне вовсе не следует. А там куда свободнее. Да и знакомые мне все места-то там. Друзей у меня там масса. С ними охота и повидаться. Вот одно только не особенно приятно, это — путешествие. Пожалуй, до самой Пасхи буду я странствовать до берега, то есть до Попова... И зачем только меня тащили-то сюда? Пожалуй, и нужно было кое о чем поговорить, и говорили, да видно не очень-то речи мои понравились. Ну, что Бог ни делает, все к лучшему. Надеюсь, что и на этот раз будет именно к лучшему..."
В пересыльный лагерь на Попов остров Владыка прибыл незадолго до Пасхи, здесь нужно было дожидаться начала навигации, когда заключенных переправляли на Соловки. Пасха в лагере для некоторых оказалась удивительной и запомнилась на всю жизнь. Вот как описывает ее священник Павел Чехранов: «Кругом лес, колючая проволока, на высоких столбах будки... Людей нагнали в пункт видимо-невидимо. Вследствие весенней распутицы лесные разработки закончились. И более тысячи человек возвращались обратно в лагерь. А весь лагерь рассчитан на восемьсот человек. Клуб закрылся и переделан под жилое помещение с нарами. В прочих бараках проходы застроены нарами, двойные нары переделаны в тройные — в три этажа. Даже в привилегированном канцелярском бараке теперь двойные нары, и вместо шестидесяти человек стало там сто двадцать. Кипятку сплошь и рядом не отпускалось, так как все котлы занимались под обед и ужин».
С началом навигации архиепископ Илларион был отправлен на Соловки. В это время здесь по благословению архиепископа Евгения (Зернова) была написана церковная декларация, которая, по мнению ее составителей, определяла положение Православной Церкви в новых исторических условиях, а также взаимоотношения Церкви и государства. Когда архиепископ Илларион прибыл на остров, текст декларации был уже прочитан и одобрен большинством архиереев. Единомыслен был с ними и Владыка.
О своей встрече с архиепископом Илларионом в этот период жизни Олег Волков в своей книге «Погружение во тьму» писал: "Иногда Георгий Осоргин уводил меня к архиепископу Иллариону, поселенному в Филипповской пустыни, в верстах трех от монастыря. Числился он там сторожем. Георгий уверял, что даже лагерное начальство поневоле относилось с уважением к этому выдающемуся человеку и разрешало ему жить уединенно и в покое. Преосвященный встречал нас радушно. В простоте его обращения было приятие людей и понимание жизни. Даже любовь к ней. Любовь аскета, почитавшего радости ее ниспосланными свыше. Мы подошли к его руке, он благословил нас и тут же, как бы стирая всякую грань между архиепископом и мирянами, прихватил за плечи и повлек к столу. И был так непринужден... что забывалось о его учености и исключительности, выдвинувших его на одно из первых мест среди тогдашних православных иерархов. Мне были знакомы места под Серпуховом, откуда был родом владыка Илларион. Он загорался, вспоминая юность. Потом неизбежно переходил... к суждениям о церковных делах России.
- Надо верить, что Церковь устоит, — говорил он. — Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящиеся огоньки — когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без Христа люди пожрут друг друга. Это понимал даже Вольтер... Я вот зиму тут прожил, когда и дня не бывает — потемки круглые сутки. Выйдешь на крыльцо — кругом лес, тишина, мрак. Словно конца им нет, словно пусто везде и глухо... Но "чем ночь темней, тем ярче звезды..." Хорошие это строки. А как там дальше — вы должны помнить. Мне, монаху, впору Писание знать.
В ноябре заканчивался трехлетний срок заключения архиепископа, но Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило Владыку ещё к трем годам заключения на Соловках. Его обвинили в том, что он разгласил содержание разговоров с Тучковым. Владыка шутил: "На повторительный курс остался".
Осенью 1927 года началось новое смятение, отчасти связанное с публикацией декларации митрополита Сергия. Архиепископ Илларион, отличавшийся большой выдержкой и мудростью, обладая широким историческим кругозором, собрал в "келью" архимандрита Феофана полтора десятка епископов, некоторые из которых стали соблазняться происходящим на воле смятением, и убедил святителей ни при каких условиях не идти на раскол. "Никакого раскола! — сказал он. — Что бы нам ни стали говорить, будем смотреть на это, как на провокацию!"
Незадолго до окончания срока и выезда с Соловков архиепископ писал родным:
"Дожил я уже до осени и этого года. Только осень у нас прямо удивительная - доселе нет ни холода, ни снега: иной раз дождичек сыплет и сыплет, а иной раз и сухо станет. А в прошлые годы в это время всегда ходил по льду озера.
Сейчас я переживаю не вполне приятное состояние полной неизвестности: уеду ли я отсюда или опять останусь. Если уеду, то скоро, но сменяю ли я в этом последнем случае ястреба на кукушку — тоже неизвестно. Словом, внутри у меня неизвестность и неопределенность. Чего пожелать самому себе — тоже не знаю. Ведь в иных отношениях у нас здесь лучше вашего, да и прижился за долгие годы. Только душа просит нового..."
14 октября 1929 года Особое совещание при Коллегии ОГПУ приговорило архиепископа к трем годам ссылки в Казахстан. Самое мучительное было в том, что теперь от Белого моря через всю страну до самых южных границ он должен был проехать этапным порядком, многократно оставаясь на неопределенный срок в пересыльных тюрьмах. По сравнению с тем, что ему предстояло теперь, Соловки были отдыхом. На этапе святитель заразился сыпным тифом, его привезли в ленинградскую тюрьму. Помочь ему было уже невозможно. В бреду священномученик говорил: "Вот теперь я совсем свободен!" Врач, присутствовавший при его кончине, был свидетелем того, как святой благодарил Бога, радуясь близкой встрече с Ним. Он отошел ко Христу со словами: "Как хорошо! Теперь мы далеки от..."
Это произошло 28 декабря 1929 года.
Архиепископ Пётр.
Здесь удобно рассказать и о архиепископе Петре (Звереве). Фотография неверно передаёт его образ: можно подумать, что Владыка был тщедушным, а это не правда.
Рассказывают, что блаженная Паша Саровская предсказала Владыке — он будет заключен в тюрьму трижды. Незадолго до последнего ареста дивеевская блаженная Мария прислала к нему сказать: "Пусть владыка сидит тихо". Видимо, была между ними какая-то связь.
Этап на Соловки отправляли с Ярославского вокзала, и власти разрешили духовным детям проводить архиепископа. Владыка, увидев их, крикнул:
– Есть ли тут дивеевские?
Среди провожавших были две дивеевских сестры.
– Передайте от меня поклон блаженной Марии Ивановне, - попросил он.
Вдадыка прибыл на Соловки поздней весной 1927 г. В лагере он работал сначала сторожем, затем счетоводом на продуктовом складе, где трудилось одно духовенство. Жил он в маленькой комнате, вместе с епископом Григорием (Козловым). Владыка Петр соблюдал молитвенное правило и жил по церковному уставу. Он принимал всех, кто желал его видеть и с ним беседовать.
Соловецкий монастырь был разогнан, но 60 монахов остались в лагере вольнонаемными. Им оставили кладбищенскую церковь во имя преподобного Онуфрия, которая находилась за пределами монастырских стен. До 1928 г. священнослужителям из заключенных чекисты разрешали посещать ее. Службы совершались ежедневно - всенощная и литургия. Архиепископ Петр старался бывать на всех службах. 6 января 1928 г. скончался находившийся в заключении на Соловках архимандрит Иннокентий (Беда). Архиепископ торжественно отпел своего келейника в Онуфриевской церкви при участии 30 священнослужителей и толпы сочувствующих из заключенных.
После отъезда с Соловков архиепископа Иллариона (Троицкого) ссыльный епископат в знак особого уважения избрал архиепископа Петра архипастырем, главой Соловецкого православного духовенства. Монахиня Серафима рассказывает: "В Соловках владыка особенно подружился с архиепископом Илларионом (Троицким). Он даже завещал ему свою перламутровую панагию с Тайной Вечерей, но владыка Илларион скончался раньше его в Ленинградской тюрьме, при пересылке в Ташкент. Помню, рассказывали, что в Соловках поминали старшего архиерея “Соловецким”. Старшим был Илларион, а как только его посадили на пароход (на отправку в этап), в церкви за службой запели: “...Высокопреосвященного Петра, архиепископа Соловецкого”.
Нравственная высота архиепископа была такова, что и в роли дворника с метлой, он внушал благоговейное уважение. Чекисты при встрече не только уступали ему дорогу, но и приветствовали его, на что он отвечал, поднимая руку и осеняя их крестным знамением. Начальники, завидев его, отворачивались — достойное спокойствие архипастыря принижало их, вызывало раздражение и досаду — архиепископ брел мимо них, опираясь на посох и не склоняя головы.
В октябре 1928 г. владыка Петр был отправлен на остров Анзер, в VI отделение лагеря за то, что крестил в Святом озере заключенную эстонку. В анзерской Троицкой командировке архиепископ работал счетоводом. Из его письма: "Слава Богу за все... Не так живи, как хочется, а как Бог велит. Писем ни от кого давно не получаю, наверное вследствие закрытия навигации. Наверное, и от меня стали реже приходить, хотя могут быть и другие не зависящие от нас причины... У нас, по-видимому, настала настоящая зима, с ветрами и метелями, так что ветер едва не валит с ног... Живу в уединенном и пустынном месте на берегу глубокого морского залива, никого не вижу, кроме живущих вместе, и могу воображать себя пустынножителем".
На Анзере владыка составил акафист преподобному Герману Соловецкому. Открытки с частями текста он посылал своим духовным чадам, и впоследствии они смогли собрать и восстановить весь текст.
Осенью 1928 г. на Анзере началась эпидемия тифа. Умерло около 500 человек – половина из сидевших в заключении. В начале 1929 г. архиепископ Петр заболел и его увезли на Голгофу в так называемый "госпиталь". Архиепископа Петра положили в палату, которая размещалась у алтаря церкви Распятия Господня. "Лечебное заведение" где, по точному выражению Александра Солженицына, "лечат смертью", размещалось в бывшем Голгофо-Распятском скиту, в помещении храма в честь Распятия Господня, на горе Голгофе.
Очевидцы свидетельствуют: "Название Голгофы вполне оправдалось. В тесных помещениях, битком набитых людьми, стоял такой спертый дух, что само пребывание в нем более продолжительное время казалось смертельным. Большая часть людей, несмотря на мороз, была совершенно раздета, голые в полном смысле слова, на остальных - жалкие лохмотья. Истощенные лица, скелеты, обтянутые кожей, голыми выбегали шатаясь, из часовни (церкви Воскресения Христова) к проруби, чтобы зачерпнуть воды в банку из-под консервов. Были случаи, когда, наклонившись, они умирали".
По предсказанию Матери Божией, явившейся 18 июня 1712 г. анзерскому преподобному Иову: "На этом месте пусть будет сооружен скит во имя страданий Моего Сына. Пусть живут 12 иноков и будут все время поститься, кроме субботы и воскресенья. Придет время, верующие на этой горе будут падать от страданий, как мухи". Предсказание Матери Божией сбылось.
Рядом с Владыкой лежал ветеринар, его духовный сын. 7 февраля в 4 часа утра он услыхал шум от влетевшей стаи птиц. Открыв глаза он увидел великомученицу Варвару со многими девами, среди которых узнал святых мучениц Анисию и Ирину. Великомученица Варвара подошла к постели Владыки и причастила его Святых Христовых Тайн. В тот же день в 7 часов вечера он скончался. Перед смертью несколько раз написал на стене карандашом: "Жить я больше не хочу, меня Господь к Себе призывает".
Из Соловецкого кремля еще во время болезни владыки прислали мантию и малый омофор. В одной из мастерских заказали гроб и крест. Разрешение на участие в похоронах получили 3 священника и двое мирян, но совершить торжественное отпевание и похоронить архиепископа в облачении начальство не позволило. Однако, вскоре стало известно, что тело Владыки бросили в общую могилу, доверху заполненную умершими. Начальство приказало завалить могилу землей и снегом, но это распоряжение выполнено не было. В канцелярии хозяйственной части совершили панихиду, а затем гроб и крест отвезли на Голгофу. Общую могилу освободили от еловых веток. Владыка лежал в длинной рубахе со сложенными на груди руками, лицо было засыпано еловыми иголочками. 10 февраля его подняли на простыне из общей могилы. Несмотря на запрещение начальства, прямо на снегу покойного облачили в новую лиловую мантию, клобук, омофор, положили его в гроб, дали в руки крест, четки и Евангелие. Перед тем, как вложить ему в руку разрешительную молитву, все три священника расписались на ней. Монахиня Арсения спросила: "Почему вы расписываетесь? На молитве ведь не расписываются!" — "Если время переменится, будут обретены мощи владыки, будет известно, кто его хоронил", — ответили они. Рукопись подписали: архимандрит Константин (Алмазов) из Петербурга, барнаульский отец Василий и отец Димитрий из Твери. Священники громко и торжественно совершили отпевание. На отпевание собралось около 20 человек. После прощальных слов останки опустили в могилу, выкопанную напротив алтаря Воскресенского храма, и поставили крест с надписью. Один из хоронивших архиепископа священников позже рассказывал, что когда могилу зарыли, над ней засиял столп света и в нем явился владыка и всех благословил.
Последний отрывок повествования выделен цветом ради того, чтобы подчеркнуть: детали (мантия, клобук и прочие) позволили точно определить место захоронения архиепископа Петра. И это надо отнести к заслугам и соловецкого монастыря и соловецкого музея.
«Изнашиваемость заключённых».
Новояз лагеря.
«Труд искупает вину», – гласил лозунг Соловков. Имея в своем распоряжении многотысячную даровую «рабсилу», Соловецкие лагеря осуществляли масштабную и разнообразную хозяйственную деятельность:
· заготавливали лес,
· строили дороги,
· ловили рыбу и морского зверя.
На Соловецких островах функционировали:
· кирпичный,
· механический,
· лесопильный и кожевенный заводы,
· электростанция предреволюционной постройки,
· собственная 10-верстная узкоколейная железная дорога с паровозо-вагонным парком.
Рабский труд оставлял соловецким узникам мало шансов на выживание. Работы, особенно на лесозаготовках, почти всегда производились по принципу заданий-“уроков” (огромных, намеренно трудновыполнимых), а рабочий «день» мог длиться от обычных 12 часов до суток и более. Праздничных и выходных дней арестантам не полагалось.
В 1925 году с Кемского отделения Соловков совершил дерзкий побег русский офицер, ингуш по национальности, Созерко Артаганович Мальсагов. На Западе ему удалось издать книгу «Адские острова», которую мы цитировали в рассказе о Холмогорском концлагере. Чтобы как-то снизить эффект возмущения, вызванный этой книгой, в 1927-28 годах был снят документальный фильм «Соловки», как ответ на широкую компанию на Западе. В нашей выставке представлены несколько кадров из этого фильма. Вот чистенькая сценка в лазарете, в аптеке, библиотеке. Работало на Соловках и «Общество краеведов». Вот умилительный кадр в пушном питомнике. Далее вы увидите доярку в белом халате. Но вглядитесь в лицо этой «доярки» и вы поймёте, как лжива была советская пропаганда.
Но, Бог с ними – кино приехало, кино уехало, а жизнь продолжалась. Жизнь страшная. Академик Дмитрий Лихачев, в студенческие годы ставший узником Соловков, вспоминал свою «расстрельную ночь»:
«Выйдя во двор, я… пошел на дровяной двор и запихнулся между поленницами… Что я натерпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)! С этой страшной ночи во мне произошел переворот. Переворот совершился в течение ближайших суток и укреплялся все больше. Ночь была только толчком. Я понял следующее: каждый день – подарок Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть довольным тем, что я живу еще лишний день. И быть благодарным за каждый день. Поэтому не надо бояться ничего на свете. И еще – так как расстрел и в этот раз производился для острастки, то, как я потом узнал, было расстреляно какое-то ровное число: не то триста, не то четыреста человек… Ясно, что вместо меня был взят кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы перед тем, которого взяли за меня, не было стыдно!».
В апреле 1931 года на низшие административные должности и в качестве стрелков военизированной охраны стали привлекать бытовиков и бывших советских и партийных работников. «Мы скорее доверим винтовку малограмотному заключенному, выходцу из рабочего класса, осужденному за бытовое преступление, чем заключенному с высшим образованием, дворянину», – наставлял в 1930 году своих подчиненных начальник Соловецкого отделения УСЛОНа Дмитрий Успенский. Так «социально близкие» уголовники последовательно превращались в опору лагерного порядка и внутреннего устройства ИТЛ.
Начальство СЛОНа озаботилось высокой смертностью заключенных – не из-за гуманизма, конечно, а из-за опасности снижения производительности труда. Эффективность использования рабского труда и без того была низкой, и требовалось прибытие все новой даровой силы для «социалистического строительства».
Из доклада заместителя начальника санчасти 3-го отделения УСЛОН Алексея Никитина председателю Особой комиссии по обследованию Соловецких лагерей о состоянии врачебно-санитарного дела в лагерях:
«Совершенно секретно. 22 апреля 1930 г.:
Ввиду необходимости выполнения полностью и часто в ударном порядке хозяйственных заданий иногда оставались без достаточного внимания не только трудовая сторона жизни заключенных, но также целый ряд санитарно-гигиенических требований… Все это создавало условия, чрезвычайно благоприятные для быстрой изнашиваемости человеческого рабочего материала и для развития ряда болезней».
Чудовищность этого канцелярита – «изнашиваемость заключенных», «неполноценная рабочая сила», «человеческий рабочий материал», «трудоспособность третьей категории» – весьма внятно характеризует отношение власти к собственному народу.
Фрейлина трёх императриц.
Но если мужчинам было трудно, как же трудно было жить, существовать в этих условиях женщинам. Но часто они являли пример исповедничества, стойкости и красоты. Сейчас мы говорим о Наталье Модестовне Фредерикс. Если позволите, я прочитаю главу из книги Бориса Ширяева «Неопалимая купина» «Фрейлина трёх императриц»:
«Великую истину сказал Достоевский: "Простолюдин, идущий на каторгу, приходит в свое общество, даже, быть может, более развитое. Человек образованный, подвергшийся по законам одинаковому с ним наказанию, теряет часто несравненно больше него. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; должен перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом… И часто для всех одинаковое наказание превращается для него в десятеро мучительнейшее. Это истина…"
Именно такое, во много более тяжелое наказание несла ЭТА старая женщина, виновная лишь в том, что родилась в аристократической, а не в пролетарской семье.
Если для хозяйки кронштадтского портового притона Кораблихи быт женбарака и его среда были привычной, родной стихией, то чем они были для смолянки, родной стихией которой были ближайшие к трону круги? Во сколько раз тяжелее для нее был каждый год, каждый день, каждый час заключения?
Беспрерывная, непрекращавшаяся ни днем, ни ночью пытка. ГПУ это знало и с явным садизмом растасовывало каэрок в камеры по одиночке. С мужчинами в кремле оно не могло этого сделать, в женбараке это было возможно.
Петербургская жизнь баронессы могла выработать в ней очень мало качеств, которые облегчили бы ее участь на Соловках. Так казалось. Но только казалось. На самом деле фрейлина-баронесса вынесла из нее истинное чувство собственного достоинства и неразрывно связанное с ним уважение к человеческой личности, предельное, порою невероятное самообладание и глубокое сознание своего долга.
Попав в барак, баронесса была там встречена не "в штыки", а более жестоко и враждебно. Стимулом к травле ее была зависть к ее прошлому. Женщины не умеют подавлять в себе, взнуздывать это чувство и всецело поддаются ему. Слабая, хилая старуха была ненавистна не сама по себе в ее настоящем, а как носительница той иллюзии, которая чаровала и влекла к себе мечты ее ненавистниц.
Тотчас по прибытии баронесса была, конечно, назначена на "кирпичики". Можно представить себе, сколь трудно было ей на седьмом десятке носить на руках двухпудовый груз. Ее товарки по работе ликовали:
– Баронесса! Фрейлина! Это тебе не за царицей хвост таскать! Трудись по-нашему! – хотя мало кто из них действительно трудился до Соловков.
Они не спускали с нее глаз и жадно ждали жалобы, слез бессилия, но этого им не пришлось увидеть. Самообладание, внутренняя дисциплина, выношенная в течение всей жизни, спасли баронессу от унижения. Не показывая своей несомненной усталости, она доработала до конца, а вечером, как всегда, долго молилась стоя на коленях перед маленьким образком.
Моя большая приятельница дней соловецких, кронштадтская притонщица Кораблиха, баба русская, бойкая, зубастая, но сохранившая "жалость" в бабьей душе своей рассказывала мне потом:
– Как она стала на коленки, Сонька Глазок завела было бузу: "Ишь ты, Бога своего поставила, святая какая промеж нас объявилась", а Анета на нее: "Тебе жалко, что ли? Твое берет? Видишь, человек душу свою соблюдает!" Сонька и язык прикусила…
То же повторялось и в последующие дни. Баронесса спокойно и мерно носила сырые кирпичи, вернувшись в барак, тщательно чистила свое платье, молча съедала миску тресковой баланды, молилась и ложилась спать на свой аккуратно прибранный топчан.
Нарастающее духовное влияние баронессы чувствовалось в ее камере всё сильнее и сильнее. Это великое таинство пробуждения Человека совершалось без насилия и громких слов. Вероятно, и сама баронесса не понимала той роли, которую ей назначено было выполнить в камере каторжного общежития. Она делала и говорила "что надо", так, как делала это всю жизнь. Простота и полное отсутствие дидактики ее слов и действия и были главной силой ее воздействия на окружающих.
Сонька среди мужчин сквернословила по-прежнему, но при женщинах стала заметно сдерживаться и, главное, ее "эпитеты" утратили прежний тон вызывающей бравады, превратившись просто в слова, без которых она не могла выразить всегда клокотавших в ней бурных эмоций. На Страстной неделе она, Кораблиха и еще две женщины из хора говели у тайно проведенного в театр священника – Утешительного попа. Таинство принятия Тела и Крови Христовых совершалось в темном чулане, где хранилась бутафория, Дарами, пронесенными в плоской солдатской кружке в боковом кармане бушлата. "На стреме" у дверей стоял бутафор-турок Решад-Седад, в недавнем прошлом коммунист, нарком просвещения Аджаристана.
Когда вспыхнула страшная эпидемия сыпняка, срочно понадобились сестры милосердия или могущие заменить их. Нач. санчасти УСЛОН М. В. Фельдман не хотела назначений на эту смертническую работу. Она пришла в женбарак и, собрав его обитательниц, уговаривала их идти добровольно, обещая жалованье и хороший паек. Желающих не было. Их не нашлось и тогда, когда экспансивная Фельдман обратилась с призывом о помощи умирающим.
В это время в камеру вошла старуха-уборщица вязанкой дров. Голова ее была укручена платком – на дворе стояли трескучие морозы. Складывая дрова печке, она слышала лишь последние слова Фельдман:
– Так никто не хочет помочь больным и умирающим?
– Я хочу, – послышалось от печки.
– Ты? А ты грамотная?
– Грамотная.
– И с термометром умеешь обращаться?
– Умею. Я работала три года хирургической сестрой в Царскосельском лазарете…
– Как ваша фамилия?
Прозвучало известное имя, без титула.
Второй записалась Сонька и вслед за нею еще несколько женщин. Двери сыпнотифозного барака закрылись за вошедшими туда вслед за фрейлиной трех русских императриц. Оттуда мало кто выходил. Не вышло и большинство из них.
М. В. Фельдман рассказывала потом, что баронесса была назначена старшей сестрой, но несла работу наравне с другими. Рук не хватало. Работа была очень тяжела, т. к. больные лежали вповалку на полу и подстилка под ними сменялась сестрами, выгребавшими руками пропитанные нечистотами стружки. Страшное место был этот барак.
Баронесса работала днем и ночью, работала так же тихо, мерно и спокойно, как носила кирпичи и мыла пол женбарака. С такою же методичностью и аккуратностью, как, вероятно, она несла свои дежурства при императрицах. Это ее последнее служение было не самоотверженным порывом, но следствием глубокой внутренней культуры, воспринятой не только с молоком матери, но унаследованной от ряда предшествовавших поколений. Придет время, и генетики раскроют великую тайну наследственности.
Владевшее ею чувство долга и глубокая личная дисциплина дали ей силы довести работу до предельного часа, минуты, секунды…
Час этот пробил, когда на руках и на шее баронессы зарделась зловещая сыпь. М. В. Фельдман заметила ее.
– Баронесса, идите и ложитесь в особой палате… Разве вы не видите сами?
– К чему? Вы же знаете, что в мои годы от тифа не выздоравливают. Господь призывает меня к Себе, но два-три дня я еще смогу служить Ему…
Они стояли друг против друга. Аристократка и коммунистка. Девственница и страстная, нераскаянная Магдалина. Верующая в Него и атеистка. Женщины двух миров.
Экспансивная, порывистая М. В. Фельдман обняла и поцеловала старуху.
Когда она рассказывала мне об этом, ее глаза были полны слез.
– Знаете, мне хотелось тогда перекрестить ее, как крестила меня в детстве няня. Но я побоялась оскорбить ее чувство веры. Ведь я же еврейка.
Последняя секунда пришла через день. Во время утреннего обхода баронесса села на пол, потом легла. Начался бред.
Сонька Глазок тоже не вышла из барака смерти, души их вместе предстали перед Престолом Господним».
Дед патриарха.
И в заключении соловецкой части нашей экскурсии надо сказать хоть два слова о деде Святейшего Патриарха Кирилла:
Василий Гундяев был одним из первых соловецких узников. В заключении он работал механиком и даже отремонтировал посаженный на мель пароход, ходивший между Соловецким архипелагом и материком. Сокамерники относились к нему с уважением. Василий всячески старался поддерживать общение с архиереями, священниками, находившимися в лагере. Одним из узников этого лагеря был архиепископ Илларион Троицкий, ближайший помощник патриарха Тихона. Патриарх Кирилл говорит, что удивительным образом святитель Илларион связан с его семьей через деда иерея Василия, также исповедника Божия, который в 22-м году был посажен в Соловецкий лагерь, где встретился со святителем Илларионом. Знал он и других русских иерархов, находящихся в заключении. В общей сложности провел в заключении и ссылке 30 лет.
А дома у него осталась жена, воспитывавшая восьмерых детей. Как они могли выжить в то время? Уходя, он ничем не мог помочь семье, ведь денег никогда не копил. На прощание сказал: «Ты не переживай и не отчаивайся, я буду молиться за вас». Однажды ситуация дошла до того, что не осталось вообще ничего в доме. И матушка в отчаянии даже заплакала, потому что не знала, что дать детям утром на завтрак. Легли спать, вдруг кто-то постучал в дверь. Открыла испуганная, думала, что теперь за ними пришли или опять что-то отнимать. Зашел какой-то здоровенный мужик и сказал: «Иди, там тебе привезли». Испуганная, выбежала во двор, а там стояла телега, на которой лежал мешок муки. И пока она перетаскивала эту муку, вернулась - уже никого нет. Откуда эта мука взялась - мы можем только догадываться. Судя по всему - по молитвам отца Василия.
Лагеря.
Мы оставили материк в 1928 году, когда погиб архимандрит Вениамин. С этого времени, с конца двадцатых годов Гулаг расползается по всей стране. Условия для этого созрели. В 1928-29 годах появилась новая категория граждан – «лишенцы». Избирательных прав лишались все священники, монахини и монахи, лица, служившие до революции в полиции и на государственной службе, воевавшие в белой армии, торговцы, да и просто крепкие хозяева. Стоило какой-нибудь бабе сказать на сельском сходе, что она когда-то жила в зажиточной семье в няньках, как положение этих людей становилось крайне неустойчивым.
Люди воспринимали лишение избирательных прав как обиду. Писали заявление властям и, случалось, добивались «восстановления в правах». Таких бумаг можно найти много в архивах. Но вы не найдёте там заявлений от священников. Они не писали их, возможно, понимая, что «телёнку бесполезно бодаться с дубом».
Решение о лишении прав принимал сельский сход или волисполком, утверждала его комиссия райисполкома. Мы поместили решение Мезенской комиссии о судьбе Василия Маслова, старосты старообрядческой общины деревни Сёмжа.
Интересная коллизия сложилась в Сёмже в конце двадцатых годов: сын одного церковного старосты взял в жёны дочь другого. Сын старосты Никольской церкви Евлампия Евлампиевича Маслова посватался к дочери старосты староробрядцев Василия Маслова. Дети заклятых врагов решили пожениться. «Капуллетти» и «Монтекки» на наш северный лад. Естественно, среди старообрядцев много было возмущения таким поступком молодых, и прихожане Никольской церкви их осуждали, но печальной стала не их история, а судьба родителей.
В 1931-ом году обоих сватов раскулачили, а на следующий год арестовали за «контрреволюционную агитацию». Евлампия Евлампиевича через пять месяцев выпустили, и до 37-го года он жил дома, работая в колхозе. 26 сентября 1937 года – второй арест как «активного церковника». 10 лет лагерей. По семейной легенде, Евлампий Евлампиевич погиб в «Кулойлаге» на реконструкции шлюзов, соединяющих реки Пинегу и Кулой. Где и как погиб Василий Семёнович – сведений не сохранилось.
В XX веке в России правила бесовская власть. Особенно сильно она проявляла свой звериный оскал там, где была явлена особенная святость. На пример, в Суре. Духовных детей святого праведного Иоанна Кронштадтского эта власть гнала особенно яростно. В 1897 году в Сурском приходе начал служить Александр Яковлевич Иванов. На семейном снимке он слева от родителей. У отца Александра была большая семья, а крестным отцом его первенца Евгения был сам святой праведный Иоанн Кронштадский.
В 1904 году отца Александра перевели в Чубнаволоцкий приход. Потом он служил в Александровском, Афанасьевском приходах. Воевал в первую мировую войну и был награждён тремя орденами. В гражданскую войну был священником первого Северного полка, и поэтому впоследствии неоднократно арестовывался. Последний раз был арестован по делу епископа Антония (Быстрова) и выслан в Ненецкий округ в ссылку. Дальше его следы теряются. Как не старается внучка Татьяна Карьялайнен узнать, где погиб дед – «компетентные органы» не дают ответа. Предполагаю, что отец Александр погиб где-то на территории «Кулойлага»
После отца Александра в Суре служил отец Венедикт Титов. Он тоже из древнего священнического рода – Поповых. Его отец, Вячеслав Титов, учился вместе со св. Иоанном Кронштадтским в семинарии. Отец Венедикт много и, кажется, охотно печатался Архангельских епархиальных ведомостях. Воспользуясь моментом немного перевести дух, прочитаю его две заметки о знаменитом земляке.
Случай первый.
( Июнь 1905 года)
Во время заамвонной молитвы я стоял у святого престола задумавшись. У меня появилась мысль описать в епархиальных ведомостях пребывание отца протоиерея в Суре.
Вдруг отец Иоанн вслух сказал: «Тебе сейчас Бог вложил в сердце благую мысль описать о моём пребывании здесь. Благословляю: пиши в назидание отсутствующим».
Случай второй.
(Июнь 1906-го года)
При служении литургии в приходском храме, когда отец протоиерей совершал у жертвенника проскомидию, я стоял в стороне и сильно занят был следующей мыслью: строителем сего приходского храма, построенного на средства отца протоиерея, был мой тесть – бывший священник сурского прихода отец Феодор Корелин.
После освящения храма, по желанию отца протоиерея, он был переведён в другой приход в следствии ложного доноса учителя местной школы. За этот перевод, как наказание, отцом Феодором не заслуженное, мне иногда приходилось слышать с его стороны обиду на отца Иоанна.
Помню, смотрю я на отца Иоанна и размышляю в себе: «Как это отец протоиерей не мог разобраться в ложном донесении? Как великий молитвенник и премногооблагодатствованный не провидел сего?»
Вдруг отец Иоанн бросает копьё (т.е. прерывает проскомидию –Н.С.), подходит ко мне и начинает спрашивать меня о здоровье тестя моего. А по получении ответа вдруг говорит мне:
- Будешь писать ему, попроси, чтобы он не обижался на меня, и скажи ему, что каждую службу я поминаю его в своих молитвах.
И отвернувшись, он продолжал проскомидию.
Отец Феодор Корелин , о котором идёт речь, на втором плане, за сыном Иоанном.
Александр Иванов, Венедикт Титов, Иоанн Корелин, Георгий Маккавеев, служивший в Суре в те же годы, — в гражданскую войну все они были полковыми священниками и по одному этому подлежали уничтожению. Георгий Маккавеев был расстрелян в 1920 году в Архангельске, Александр Иванов, повторюсь, погиб в ссылке, Венедикт Титов, тоже был трижды судим, последний раз в 1938-ом году.
Справа мы поместили копию протокола допроса отца Венедикта. Когда читаешь такие документы, больше всего поражают спокойствие, достоинство вопрошаемых. Отцу Венедикту присудили тогда, в тридцать восьмом году, 10 лет лагерей. На этапе в «Кулойлаг» уголовники отобрали у него валенки. Он обморозился, началась гангрена, и, вероятно, в санчасти Окуньковских лагерей отец Венедикт умер. Это всё, что удалось выяснить дочери.
– Подумаешь, зэк умер, — сказали ей, — «съактировали», и все дела! За первый квартал 1938 года в «Кулойлаге» ещё «полторы тыщи» умерли, а за год — четверть лагеря.
Вы спросите, где могилы? Нет могил. Или под каждой елкой по могиле – кому как нравится. Ни один музей мира не сможет рассказать о всех погибших и зарытых в наших северных лесах. Поэтому такие крестные ходы, как наш на снегоходах, проведённый в 2013 году, должны стать традиционными. И в лесу, хоть раз в году, должна звучать молитва.
На лесоповале гибли и Владыки (Владыка Игнатий погиб в «Кулойлаге»), и простые священники, а больше — здоровые мужики, крестьяне — хребет, основа нации. Выработался даже норматив: зэк должен отработать три месяца. Но некоторые смогли продержаться и дольше. За свидетельством вновь обратимся к Олегу Волкову:
«...Самое трудное дело в землянке — высушить намокшие за день в лесу одежду, рукавицы, портянки. Возле железной бочки, обращенной в печь, тесно. Надо уметь захватить место и его сохранить. Кроме того, металлические стенки нагреваются добела и близко развешенное тряпье, того и гляди, сгорит, а если развесить подальше — рискуешь к подъему найти свои шмотки сырыми. А как в мороз идти на заснеженную лесосеку, да еще в особенно тяжкий темный предрассветный час, в сыром ватнике и влажных рукавицах, сразу затвердевающих? Про это и помыслить нельзя без содрогания, если даже лежишь, как я сейчас, в несусветной жаре, на верхнем ярусе нар, настланных из неокоренных жердей. Тут бывает, как возле паровозной топки. От расшурованных в объемистом чреве бочки смолистых кряжей железо накаляется, как в горне, и обжигающий жар проникает в самые далекие и темные закоулки землянки: впору лежать как на полке в бане — нагишом. Поэтому новички норовят заполучить себе место внизу и подальше от очага.
Но я старожил. Давно кочую по лесным лагпунктам и потому знаю, что усердно топят только короткое время, пока вваливаются с мороза в землянку, ужинают и разбираются. Потом все полягут спать, никому неохота встать и подложить в гаснущую топку дров, да их частенько и не хватает на всю ночь. А с дневального чего спросишь? Больной, обколоченный старик... Пошлет тебя подальше, натянет и обладит вокруг себя неописуемое тряпье, из какого сооружено его ложе, и снова захрапит. Едва огонь ослабеет, как мороз через тысячу щелей и дыр начинает проникать в землянку: она слеплена из жердей, крыша из лапника, прижатого к обрешетке комьями мерзлой земли.
Потому я и выбрал себе место наверху и поближе к печке: тепло держится тут дольше. Да и сподручнее следить отсюда за своим добром: прозеваешь — и спрашивать будет не с кого. И ступай, пожалуй, на целый день в лес в котах из автомобильных покрышек на босу ногу! У меня завелись суконные подвертки, вырезанные из полы старой шинели, доставшейся от задавленного деревом при валке товарища, и я поневоле над ними трясусь.
В моем представлении поморозиться — последнее дело, хотя немало народу мечтает попасть в стационар с обмороженными пальцами. Даже видит в этом великую удачу. «Уроки», правда, сумасшедшие, за невыполнение грозят тяжкие кары, но превратиться в этой обстановке в инвалида — уж лучше сразу, как поступают некоторые, незаметно отстать от партии и удавиться на суку или попросту лечь на снег в исподнем... Вопреки здравому смыслу и опыту, я вбил себе в голову, что должен непременно выйти из лагеря, пусть нет воли и за зоной.»
Рискую вызвать неудовольствие, но продолжу цитирование:
«Нас, как всегда, пригнали на лесосеку затемно, и мы развели костер, поджидая рассвета. Но уже показался край нераннего зимнего солнца — багрового, зловещего,— а мы все еще сидим. Пожалуй, грейся хоть целый день! В лесу все равно продержат, пока не будет выполнен «урок». Бригадир с воспитателем раскидают костер — это испытанный способ, чтобы заставить свалить назначенное число деревьев и подтащить к санной дороге положенное количество бревен.
И я, наконец, решаюсь встать первым и отойти от костра.
— Ему больше всех надо, очкастой суке! — злобно цедит кто-то за моей спиной.
Я узнаю голос, но мне неохота обернуться, чтобы ответить. Пусть себе!
Один за другим, работяги следуют моему примеру, у костра не остается никого. Еле двигаясь, через силу принимаемся за работу.
Стужа, затаившаяся за пределами очерченного огнем магического круга, сразу сковывает, хватает, как клещами. Стоит ступить в рыхлый снег, как он тотчас попадает в ботинок: сухой и черствый, как соль, снег, просыпавшись за портянку, ожигает кожу. Ноют стынущие пальцы, нетвердо охватившие рукоять лучковой пилы.
Не скоро, ох как не скоро начинает брать свое движение: понемногу разогреваешься, мысли сосредотачиваются на том, откуда лучше делать запил, в какую сторону валить дерево, и поневоле начинаешь шевелиться проворнее, чтобы не терять попусту времени: кубометры «урока», как наведенное на тебя дуло пистолета. И только подумать, что находились ликующие перья, писавшие об этом как о трудовом подъеме!.. Но, как бы ни было, ГУЛаг лес заготавливал.
Справившись со здоровенным стволом — не менее двенадцати дюймов в отрубе! Это, пожалуй, без малого кубик,— я распрямляюсь, сдвигаю шапку с влажного лба... Стоит околдованный зимой лес. Да не какой-нибудь жиденький, просвечивающий, а не тронутый от века северный бор — глухой, нескончаемый, с великанами-соснами и лиственницами. Его впервые потревожили люди... Деревья плотно укрыты снегом. Ели стоят, как торжественные, сверкающие свечи. Там, где не достает солнце, скопились яркие синие тени. Не заросшие подлеском поляны и прогалы в плавных мягких буграх, похожих на белые волны; они искрятся и блестят в тени. И так тихо, так неподвижно кругом, что мерещатся какие-то волшебные чертоги из сказки. Я поддаюсь очарованию, даже отвлекаюсь от своего дела — такой первозданной красотой довелось любоваться! — но не настолько, чтобы забыться, зашагать между деревьями. Уйти в эту красоту куда глаза глядят...»
Олег Волков сумел выжить и описать своё «погружение во тьму», но сколько мужиков и женщин перемололи «Каргопольлаги», «Ягринлаги» и прочие «лаги». Любителям пофилософствовать о росте могущества державы я посоветовал бы встретиться с Галиной Викторовной Шавериной, председателем северодвинского общества «Совесть». Она собирает останки заключённых «Ягринлага» и хоронит их.
Совершенно непонятную операцию провели «компетентные органы» в 1941 году. 16 ноября в один день были арестованы все бывшие сёстры Сурского Иоанно-Богословского монастыря (Мария Красильникова-Перовская была арестована 17 ноября потому, что 16-го её не было дома). Все сёстры за «принадлежность к организации церковников» получили по 5 или 10 лет лагерей, а три монахини – Ангелина, Анастасия, Апполинария – были расстреляны. Наш музей, Архангельский епархиальный музей Новомучеников и Исповедников Российских, намерен готовить материалы на них (и Александру Ларюшеву, и игуменью Серафиму) для епархиальной комиссии по канонизации для прославления их как новомучениц.
Ссыльный город
Герои нашей выставки — и северяне и те, кто оказались на Архангельской земле не по своей воле, — страдали на ней, многие умерли, и они делают её святой.
В то время Архангельск превратился в сплошной ссыльный город.
(Мы цитируем воспоминания об Архангельске 20-тых годов протоиерея Виктора Шиповальникова). Сначала была устроена вольная ссылка. Прибывал поезд со ссыльными людьми, их выгружали, и они шли, куда хотели, но никто их принять не имел права. А куда им деваться, где жить? У меня сестра работала в детском садике. В Архангельске было много лесопильных заводов, и на одном заводе она заведовала детским садом. Там было одно большое помещение, и она приняла туда нескольких этих бездомных людей. Сколько она потом за это вытерпела! Следует сказать, что всегда находились люди, которые ссыльное духовенство все-таки принимали, несмотря на грозившую им опасность. Среди таких были и близкие мне люди — о. Феодор и Елизавета Максимовна. Отец Феодор служил в храме в честь Иоанна Рыльского.
Отец у меня был моряк, он работал механиком на судах, которые перевозили разные лесопильные материалы на продажу за границей. Он видел, как там жизнь идет и как у нас. Он мне сказал: "Уезжай отсюда из Архангельска, уезжай".
В Архангельске я с малолетства был при церкви.
Старшая сестра рано овдовела. Она ходила в церковь и брала меня с собой. Потом один батюшка мне говорит: "Что это ты тут стоишь, иди в алтарь кадило подавать". Стал я помогать в алтаре. С семи лет я был алтарником, потом попозже я стал чтецом на клиросе. Младшая сестра пела в хоре, и мама была очень верующим человеком.
В Соломбале была деревянная церковь, она была названа в честь святого Иоанна Рыльского, потому что строил ее батюшка о. Иоанн Кронштадтский, носивший имя этого святого.
Храм Иоанна Рыльского стоял на берегу Двины, деревянный небольшой храм. И там были удивительные службы — то, что мне запомнилось с детства.
У нас в ссылке были такие знаменитые иерархи, как Лука (Войно-Ясенецкий), Серафим (Чичагов), Илларион (Троицкий) и много еще, но этих я особенно запомнил потому, что я у них с посохом стоял. Они имели право служить, но не все, а остальные с ограничениями. Часто бывала такая вот картина: идет служба в храме Иоанна Рыльского, служит священник с диаконом, а в алтарь войдешь, по всему алтарю по стенам стоят архиереи в облачениях. Они служить не могут, но стоят в облачении и потом все причащаются. Это зрелище необычное, когда видишь в алтаре такое духовенство в облачении.
Епископ Илларион (Троицкий) был очень общительный человек и любил рыбу ловить. Один раз я даже с ним ездил на лодке на рыбалку.
Напомню: ещё до до Соловков Владыка Иллариона на год был сослан в Архангельск.
4 июля он вместе с этапом заключенных прибыл в Архангельск. Дом, в котором он проживал, находился почти в центре г. Архангельска, хозяева выделили ему большую комнату с выходящими на солнечную сторону окнами.
А по соседству с ним жил митрополит Серафим (Чичагов). Более того – когда ОГПУ решило провести обыск на его квартире (чекистов беспокоила активная переписка Владыки Иллариона, и они искали письма московских знакомых и Патриарха), они в качестве понятого привели ни кого-нибудь, а митрополита Серафима.
Природная весёлость Владыки Иллариона позволила ему и в условиях обыска сказать пару фраз, которые молва сохранила:
– Любезные, вы что ищете? Письма? Так вы все уже прочитали и запротоколировали, — сказал он чекистам и добавил, — Прошу: передайте тем, кто вскрывает чужие письма, пусть работают аккуратнее. А то и Патриарх жаловался, что их работа сразу видна.
Потом был ещё один обыск, и он тоже ничего властям не дал, и «из-за отсутствия уличающего материала» митрополиту разрешено было возвратиться в Москву.
Позднее он с благодарностью писал архангельским знакомым и по поводу пирогов, «которых никогда столько не ел», и по поводу походов «по клюкву», и рыбалки, и прогулок по набережной. Всё это было, но не клюква, пироги и набережная были главными в архангельский год жизни Владыки.
9 ноября 1922 г. владыка Илларион писал: "Меня совершенно не интересует моя личная судьба, потому что внешнее положение для меня не составляет ничего важного... Но я не могу не страдать и не говорить горячо, видя и понимая страдания Русской Церкви. Смута, произведенная негодяями... на чем держится? Она держится только на том, что сейчас преступно отменена свобода совести и уничтожено отделение Церкви от государства, установленные в основных законах... Есть люди, которых ссылают в дальние края именно как православных иереев, очищая место разным прохвостам. Это бессовестное издевательство над государственными законами людей, ослепленных своей глупой и тупой враждой к Православной Церкви, меня возмущает до глубины души. И разве это можно сколько-нибудь извинять. Это просто мерзко и больше ничего. Негодные люди были всегда, но никогда им не было такой свободы не только действовать, но и верховодить и "начальствовать".
Очень часто в церкви Иоанна Рыльского служил митрополит Серафим (Чичагов).
Блестящий офицер, имевший 16 правительственных наград за храбрость, он, ради служения Господу и по совету св. Иоанна Кронштадтского (чьим духовным сыном он был на протяжении долгих лет), бросил блестящую военную карьеру и в 1890 году в чине полковника вышел в отставку. 26 февраля 1893 года он становится священником.
Овдовев, принимает постриг под именем Серафим. Владыка глубоко чтил память преподобного Серафима Саровского. Однажды, решив съездить к местам подвигов прп. Серафима Саровского, где встретился с одной из трех монахинь, помнивших старца. Уже старая и больная старица Пелагея Ивановна, обрадовалась приходу будущего митрополита, сказав: "Вот хорошо, что ты пришел, я давно тебя поджидаю. Преподобный Серафим велел тебе передать, что наступило время открытия его мощей и прославления". В недоумении будущий святитель ответил, что в силу своего положения в обществе не может быть принят Государем, она отвечала: “Я ничего не знаю, передаю только то, что мне повелел Преподобный”. Через некоторое время Серафим (Чичагов) начал работу над "Летописью Серафимо-Дивеевского монастыря". К моменту завершения этого труда автор был уже архимандритом. Вскоре ему удалось встретиться с Государем и, поднеся ему книгу, и сумел убедить Царя в необходимости открытия мощей преподобного.
После революции новая власть не простила ему прославления Серафима Саровского. 25 апреля 1922 года судебная коллегия ГПУ под председательством Уншлихта приговорила митрополита Серафима к ссылке в Архангельскую область. В Архангельске митрополит прожил до конца апреля 1923 года, служил в церкви Иоанна Рыльского и кафедральном соборе. Но 16 апреля 1924 года митрополит Серафим снова был арестован, т.к. «в 1903 году Чичагову было поручено руководство и организация открытия мощей Серафима Саровского». Где русская святость, там безбожная ярость вскипает с особенной силой.
О третьем Владыке, о котором мы говорим около этого стенда, говорим с особым чувством, — это святитель Лука (Войно-Ясиневский). Опять процитируем Олега Волкова:
«...Он присылал за мной кого-нибудь из своего окружения, обычно милую пожилую массажистку, целиком ушедшую в заботы о церковнослужителях. Я шел в городскую клинику, и санитар из приемной провожал меня к нему в хирургическое отделение.
Он выглядывал из-за двери операционной — с опущенной на бороду маской, в халате и белой шапочке — и просил обождать. А потом двери распахивались перед профессором, и он появлялся — высокий, величественный, в рясе до пят и монашеской темной скуфье. На тяжелой цепи висела старинная панагия. Я спешил подойти под благословение, и преосвященный Лука широко и неторопливо меня крестил. Потом мы троекратно лобызались. Он поворачивался к лаборантам и сестрам, толпившимся в дверях, и отпускал их легким кивком и общим крестным знамением.
Известнейший хирург профессор Войно-Ясенецкий, он же епископ Самаркандский Лука, приучил работавших с ним к молитвам, без которых не приступал к операциям, и к священникам, которых по просьбе больных приводил в палаты для исповеди или причастия. Так что православные обычаи и обрядность в стенах этой советской больницы принимались как должное. Искусство, прославившее хирурга, служило надежным заслоном: всесильное ведомство следило, чтобы преосвященного не утесняли. Пусть себе тешится крестами да поклонами, бормочет молитвы, лишь бы, когда припечет, он был под рукой — хирург-волшебник.
В городе не осталось ни одной церкви. Был взорван собор. На богослужения приходилось идти далеко за город, в кладбищенскую церковку, вот преосвященный и брал меня иногда с собой. Служить ему было запрещено, и на службах он присутствовал наравне с прочими мирянами. Даже никогда не заходил в алтарь, а стоял в глубине церкви, налево от входа с паперти.
— Мне-то ничего не сделают, даже не скажут, если я и постою у престола или служить вздумаю,— говорил владыка.— А вот настоятелю, церковному совету достанется: расправятся, чтобы другим неповадно было. Меня терпят, но смотрят зорко — не возьмет ли кто с меня пример? И горе обличенному! А мне каково? Знать, что служишь привадой охотнику? Я окружен агентами. Вот и рад, когда ко мне приходят, и страшусь. Не за себя, конечно...»
Великий хирург Войно-Ясеневский и святой исповедник Лука прожил в Архангельске два года, но оставил в нём неизгладимый след. И из его биографии архангельские годы не выбросить, поскольку самую знаменитую свою работу «Очерки гнойной хирургии» он начал писать в Архангельске.
Архангельские Владыки.
В этом разделе экскурсии мы поговорим об Управляющих Архангельской и Холмогорской епархией, архангельских Владыках.
Только двое из них, архиепископы Никифор и Иоанн, умерли своей смертью. Они тоже и арестовывались, и бывали в ссылках, но хоть кончина их была сравнительно мирной. Все остальные - или расстреляны, или умерли в тюрьме.
Когда большевики вернулись в Архангельск, в 1920 году, Владыка Нафанаил находился в Москве, управлял епархией викарий – епископ Пинежский Павел. Он сразу же был арестован. Ему вменялось в преступление сотрудничество с властью белых (измена Родине), организацию «Архангельского Союза духовенства и мирян», создание «черносотенных организаций», распространение нелепых слухов. Речь шла об явлении Божьей Матери над Архангельском в 1919 году.
А такое явление действительно было.
В воскресенье, 3 августа 1919 года, в городе Архангельске в восьмом часу вечера, Емилия Андреевна Перешнева 15-летняя гимназистка 5 класса, Валентина Андреевна Перешнева 13-тилетняя гимназистка 3 класса, Виктор Андреевич Перешнев 10-тилетний гимназист 1 класса, Ольга Михайловна Зеленина 13-тилетняя гимназистка 1 класса, Галина Михайловна Зеленина 11-летняя гимназистка 1 класса, Юлия Алексеевна Киселева 13-летняя ученица 2 класса высшего начального училища и Сергий Николаевич Попов 13-летний ученик 2 класса высшего начального училища, спасаясь от дождя, сидели на крыльце дома №135, принадлежавшего А.В. Перешневу, у Новгородского проспекта между Почтамтской и Кирочной улицами. Неожиданно они увидели невысоко над горизонтом к Почтамтской улице на северо-западной стороне Пресвятую Деву Марию, не во весь рост, но в сидячем положении, с Богомладенцем Иисусом Христом.
О необычном явлении детям было немедленно сообщено соответствующим рапортом в Архангельское епархиальное управление. Тут же на основании показаний свидетелей был составлен акт с описанием происшедшего, который вместе с рапортом был предоставлен на рассмотрение временно управляющему Архангельской епархией - Преосвященному Епископу Пинежскому Павлу.
В тот же день на этом рапорте последовала резолюция Его Преосвященства: «Милость Божья и заступление Божьей Матери да будет с нами и над градом нашим». Для проведения тщательного исследования данного чудесного события, 4 сентября 1919 года в Архангельске было созвано объединенное собрание Епархиального и Миссионерского Советов. На собрании был составлен специальный «Акт о явлении на небе Божьей Матери с Богомладенцем Иисусом Христом, бывшем в г. Архангельске 3 августа сего года».
В частности в нем описывается, что «Царица Небесная простирала обе руки вперед ладонями вниз и покрывала город. Лицо Божьей Матери продолговатое, некруглое было обращено на город на юго-восточную сторону. Кругом лица был светло-золотистый круг. Части лица были видны, но неясно. Одежда у Божьей Матери была широкая, сине-голубая.
На коленях Ее между протянутыми руками сидел Иисус Христос-младенец. Одежда на Нем была длинная, светлая, белая. Он часто двигал руками, а потом сделал и движение правой рукой, как благословляют. Около головы Спасителя был светлый круг. От круга во все стороны шли светлые лучи. Все это изображение было в четырехугольном облаке, как киота, или четырехугольной картине в просвете между облаками. Видение продолжалось 20-30 минут и затем постепенно стало исчезать; на его месте осталась голубая светлая полоса».
Акт был подписан всеми указанными выше свидетелями чуда и заверен протоиереем Михаилом Поповым, настоятелем Воскресенской церкви г. Архангельска, Владимиром Леонидовичем Павловым, Андреем Михайловичем Распопиным. Объединённое собрание также постановило: «Акт напечатать в Епархиальных Ведомостях», что и было исполнено.
Суд советской власти был скор на расправу. Епископ Павел сначала был приговорён к расстрелу, который в последствии заменили пятью годами заключения.
В 1926 году Владыка Павел вышел из тюрьмы и был назначен епископом Уральским. С 1933 – он архиепископ Иркутский.
В 1937 году он снова арестован и 24 ноября в возрасте 52 лет Владыка Павел умер в Иркутской тюрьме.
В 1921 году на Архангельскую кафедру был назначен Владыка Антоний. Но уже через год его отправляют в ссылку в Нарымский край, и пока он был там, Архангельской епархией руководили Владыки Варсонофий, Николай (Караулов), Софроний, Илларион (Бельский). Я говорю так коротко об них не от небрежения. Владыка Варсонофий умер в ссылке, Владыка Николай в Новосибирской тюрьме, Владыки Софроний и Илларион – расстреляны. Какое уж тут небрежение.
Владыка Антоний вернулся в Архангельск в 1926 году, но вскоре опять был арестован.
В ноябре 1926 года к Е. П. Пешковой, к жене Горького, возглавлявшей тогда «Красный Крест», обратился за помощью Николай Нуромский,вологодский школьник, 13-летний сын Марии Николаевны Нуромской
«Екатерине Павловне ПЕШКОВОЙ
К Вам обращается Николай Нуромский, житель города Вологды, с просьбой походатайствовать о своей матери, Марии Николаевне Нуромской, сидящей в Архангельске, в Исправдоме, и о деде Епископе Антонии (Быстрове), проживающем в Архангельске и обязанном подпиской о невыезде впредь до разрешения в административном порядке их дела, производящегося при Архангельском Губернском Отделе ОГПУ и направленном в административном порядке в Москву на утверждение приговора.
Дело это таково.
29 июня 1926 года в № 146 газеты "Правда" появился фельетон Михаила Кольцова под названием "Дух промышленности", обличающий Архангельского обновленческого архиепископа Михаила ТРУБИНА в мошенничестве с контрабандой. После этого во взаимных пререканиях приверженцев "тихоновской" и "живой" церквей в городе Архангельске начали циркулировать слухи, будто бы обновленцам за контрабанду ничего не будет, так как третью часть вырученной от продажи суммы они передали зам<естителю> нач<альника> Архгуботдела ОГПУ Каплану. Этот слух поддерживался тем, что, действительно, по фельетону М. Кольцова никакого преследования обновленческого архиерея не было, а сам слух, откуда начался, неизвестно.
Видя, что Михаила ТРУБИНА за контрабанду не преследуют, некий житель г<орода> Архангельска Аруев, служащий в Рудметалторге, обратился с анонимными письмами во ВЦИК, в Комиссариаты Юстиции, Внутренних Дел, Рабоче-Крестьянской Инспекции, а также в Архангельский Губисполком, Прокуратуру и РКИ, в каковых письмах он обращал внимание на то, что обновленческого епископа за контрабанду не преследуют, и что по Архангельску ходят слухи, что третью часть прибыли от контрабанды епископа получил Каплан из ОГПУ. Эти письма были препровождены для дознания в Архгуботдел ОГПУ и послужили основанием для дознания об их авторе.
Губотделу ОГПУ удалось дознать, что автором является Аруев, и были арестованы он, Аруев, и Пец, владелец пишущей машинки, на которой печатались письма Аруева властям. При допросе Аруев показал, что он слышал про Каплана от священника А. Нечаева, а тому это рассказал обновленческий священник Чирков. Допрошенный Нечаев этой ссылки не подтвердил (а Чирков, если не ошибаюсь, и вовсе не допрашивался и не вызывался). Когда это было предъявлено Аруеву, то он дал новое показание, что он слышал про епископа Михаила Трубина и про Каплана от моей матери, Марии Николаевны Нуромской. Она летом приезжала в Архангельск к своему отцу, епископу Антонию, на 2 недели и потом выехала в Вологду, кажется, через день или два, вообще, вскоре после выхода фельетона М. Кольцова.
В этом заключается все преступление М. Н. Нуромской. Оно формулировано по 179 ст<атье> УК, но почему-то этому чисто уголовному обвинению придав вид и ход контрреволюционного дел, и несмотря на предъявление ей только этой статьи, она содержится в Архангельске в Исправдоме, ей объявлено, что дело направлено в центр в административном порядке, и что ей грозит административная высылка. При этом, хотя моя мама и больная женщина, но ей более месяца отказывают в медицинской помощи.
Таково дело моей матери М. Н. Нуромской. Оно возникло исключительно на почве вражды <между> "тихоновской" и "обновленческой" церквями. Начато оно и строго ведется, разумеется, потому, что в исходе его заинтересован зам<еститель> нач<альника> Архгуботдела ОГПУ тов<арищ> Каплан, сам участвовавший в допросах М. А. Нуромской и других лиц. Ничего похожего на контрреволюцию в этом деле не имеется, и если даже моя мама, может быть, и говорила в частной беседе с Аруевым, что часть денег от контрабанды получил Каплан, то об этом говорил весь Архангельск, изумлявшийся тому, что контрабандисты остаются безнаказанными, и искавший объяснений для этого непонятного явления.
Одновременно с этим дознанием в Архангельске было начато другое. Некая Поварова, древняя старушка, с дочерью подверглись обыску, при котором у них нашли переписку с Москвой и другими городами на церковные темы, и в том числе послание из Архангельска от группы верующих и духовенства к митрополиту Крутицкому Петру, содержащее протест против заявления или выражения митрополита, что Дух Святой может действовать через Советскую Власть. Это послание или черновик послания был подписан одним только бывшим преподавателем Архангельской семинарии Вл<адимиром> Ив<ановичем> Поповым. Этот документ дал основание для дознания о существовании в Архангельске контрреволюционной группы, ставящей целью помощь международной буржуазии (61 ст<атья> Угол<овного> Кодекса). К этому делу привлечены городские священники Мих<аил> Попов (брат В. И. Попова), З. Калашников, благочинный Архангельских церквей К. Орлов, благочинный Иоанн Серебрянников, свящ<енник> Александр Иванов, Поварова и мирянка Минаева. Вслед затем предъявлено обвинение и моему деду, епископу Архангельскому и Холмогорскому Антонию, сущность обвинения которого формулирована так, что, будучи главою местного духовенства епархии, он является его руководителем, а, следовательно, он и не мог не знать о существовании "группы духовенства и мирян", если бы таковая существовала, и об ее контрреволюционных замыслах. Между тем, послание от "группы" было составлено в Архангельске, как видно из дознания, в то время, когда епископ Антоний находился в Нарымском крае в ссылке (в 1925 г<оду>), а в Архангельск явился в 1926 году. Несмотря на это, обвинение предъявлено по 61 и 73 ст<атьям> Угол<овного> Код<екса>.
Мой дед — старик очень преклонных (70) лет, больной, и только недавно отбывший 3-летнюю административную высылку в Нарымском крае, откуда он беспрепятственно вернулся в Архангельск к месту прежнего жительства и служения. Политикой он не занимается, и власти, в том числе и представители ОГПУ, относились к нему хорошо, пока не разразилась эта история с фельетоном об епископе Михаиле Трубине. Теперь все эти дела соединены в одно дознание: одним предъявлено обвинение по 61, другим по 73, третьим по 179 ст<атьям> Уг<оловного> Код<екса>, но все идет как контрреволюционное дело и направляется на разрешение в центр.
Излагая вышеизложенное, я очень прошу Вас похлопотать по этому делу, открыть глаза центра на то, что в деле в отношении моей матери М. Н. Нуромской нет решительно ничего контрреволюционного, а по отношению к моему делу, епископу Антонию (Быстрову) нет никаких данных, припутывать его к "группе". Мой адрес: город Вологда, ул<ица> Герцена, д<ом> № 3. Я — ученик 2 ступени Сов<етской> школы Николай Нуромский.
Н. Нуромский.
21/XI-1925 г<ода>».
На письме — помета рукой Е. П. Пешковой:
«Запросить С<екретный> О<отдел».
Епископ Антоний (Быстров) вскоре был освобожден под подписку о невыезде. Возведен в сан архиепископа, но 23 января 1931 — арестован и привлечен к следствию по групповому делу ссыльных священнослужителей. Обвинялся в том, что «покровительствовал и помогал сосланным в Северный край церковникам, в частности, оказывал материальную помощь и моральную поддержку ссыльному духовенству, монашествующим. В Воскресенской церкви, где он совершал богослужения, ему сослужили епископы Аверкий (Кедров), Инокентий (Тихонов), Тихон (Шарапов), отбывавшие в тот период ссылку в г. Архангельске».
16 июля 1931 Владыка Антоний скончался в больнице следственной тюрьмы Архангельска.
Мария Нуромская была приговорена к 5 годам ссылки в Северный край и отправлена в Усть-Цильму. 12 декабря 1932 — арестована по групповому делу ссыльных священнослужителей, 10 мая 1933 — приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в Северный край (Коми).
Должность архангельского Владыки была расстрельной, как в прочем и по всей стране, где действовал принцип «демократического централизма». Служившие после Владыки Антония архипастыри Василий (Дохтуров), Аполлос (Ржаницын), Никон (Пурлевский) прожили в Архангельске по два года, и их надо было переводить в другие епархии, спасая от расправы. Но в 1937-38 годах они всё равно были расстреляны.
Когда после 6 мая 1944 года в Архангельск был назначен Владыка Леонтий , в епархии служили только три священника.
Он тоже получил своё: после доноса одного коммуниста отец Леонтий побывал и на Соловках, и в Кеми, но когда после освобождения сначала служил в селе Ильинском Ярославской области, ему удалось восстановить разрушенный главный купол церкви и водрузить на нём крест.
Современники его вспоминали: в быту вне храма он никогда не снимал своего поношенного подрясника, сшитого из простого тёмного материала. При его появлении на улице, бывало, прохожие посмеивались над странным священником, а некоторые даже оскорбляли и издевались над ним. В то время священнослужители были «вне закона», подвергались всеобщему глумлению и осмеянию. Поэтому большинство из них вне храма носили светскую одежду, коротко стригли волосы, из-за чего их невозможно было отличить от остальных людей. Владыка Леонтий в своей рясе, с длинными волосами выглядел как чужак. Однажды один из подростков, подсмеивавшихся над архиереем, бросил в него камень, который попал владыке в глаз и выбил его. Как сообщает семейное предание, он не рассердился на испугавшегося хулигана, а занёс его имя в свой поминальник и молился о его здравии.
За время своего управления епархией Владыка Леонтий освятил 35 православных храмов. В годы Великой Отечественной войны благословил сбор средств для нужд Красной армии. Под его руководством было собрано и внесено в Госбанк и Фонд семей Красной армии свыше 233 тыс. рублей.
25 февраля 1952 года Владыка Леонтий был возведён в сан архиепископа.
Он был удивительно смиренным и кротким архипастырем. Жил очень скромно и имел всего одну панагию, из дома на службы добирался пешком.
Владыка представился 22 января 1953 года и похоронен у алтарной части Свято-Ильинского кафедрального собора. На памятнике, изготовленном в виде аналоя, были запечатлены предсмертные слова архипастыря: «Дети мои, любите Церковь, молитесь Богу, молитесь за обижающих вас».
Брат и сестра
В 2013 году мы, я имею в виду Центр изучения и сохранения памяти Новомучеников и Исповедников Российских, Музей и отдел православного краеведения, обрели две святыни. Стараниями Сергея Валерьевича Шишелова и монахини, матушки Осии, мы узнали, где похоронены протоиерей Николай Пискановский и игуменья Серафима, последняя настоятельница Сурского женского монастыря.
Протоиерей Николай Пискановский родился не на Севере и служил в Одессе, но в годину гонений, когда Церковь сотрясали раскол и жесткий контроль со стороны «органов», и нельзя было пользоваться обычной почтой, потребовались люди, добровольно взявшие на себя роль курьеров. Отцу Николаю удавалось сравнительно долго поддерживать связь украинского епископата с Москвой, но в 1928 году его арестовали и присудили три года Соловков.
В это время он уже был болен туберкулёзом.
Из воспоминаний Д.С.Лихачёва: «Он был нашим духовным отцом все время до своего отъезда с острова. Его нельзя было назвать веселым, но всегда в самых тяжелых обстоятельствах он излучал внутреннее спокойствие. Я не помню его смеющимся или улыбающимся, но всегда встреча с ним была какой-то утешительной. И не только для меня. Помню, как он сказал моему другу, год мучившемуся отсутствием писем от родных, чтобы он потерпел немного, и что письмо будет скоро, очень скоро. Я не присутствовал при этом и поэтому не могу привести здесь точных слов отца Николая, но письмо пришло на следующий день. Я спросил отца Николая, как он мог знать о письме? И отец Николай ответил мне, что он и не знал, а так как-то „вымолвилось“. Но таких „вымолвилось“ было очень много. У отца Николая был антиминс, и он шепотом совершал впоследствии Литургию в шестой („священнической“) роте».
На Соловках была и жена отца Николая, учительница Клавдия Петровна Пискановская. После освобождения из лагеря в 1934 году, она уже не застала мужа в живых – Николай Пискановский умер в архангельской больнице в 1932 году. Хоронили его архангельский аптекарь Александр Алексеевич Левичев, завещавший и себя похоронить рядом с «этим святым человеком», и дочь Ксения.
Один красный нарком однажды пообещал извести «семя поповское» до четвёртого колена. Советской власти удалось выполнить это наполовину: Клавдия и Ксения Пискановские были осуждены по делу «епископа Парфения (Брянских)». Клавдия Петровна умерла «где-то на просторах «Кулойлага», Ксения Николаевна странствовала по командировкам лагерей и ссылок до 1954 года, до смерти Сталина.
Но мы ни йоту не приблизились к пониманию, где были расстреляны брат и сестра Брянских — священномученик Парфений и мученица Антонина. Это произошло в 1938 году. Мы во время крестного хода молимся около поминального креста в Бабонегово о всех расстрелянных во время Большого террора и понимаем, что, может быть, никогда доподлинно не узнаем, где зарыт тот или иной человек, а их в 1937-38 годах были расстреляны тысячи.
Священномученик Парфений и мученица Антонина приходились друг другу братом и сестрой – как в древности святитель Василий Великий и преподобная Макрина или как праведные Артемий Веркольский и Параскева Пиринемская. Их отец Арсений Петрович Брянских был купцом второй гильдии и потомственным почетным гражданином города Иркутска.
Арсений Брянских старался дать детям хорошее образование – приглашал к ним учителей. Он определил старшего сына Петра в Иркутскую гимназию, Иннокентия – в городское училище, а Антонину – в Киевскую женскую гимназию. Отец надеялся, что Петр станет купцом. Однако сын выбрал совсем иной путь и поступил учиться в Иркутскую духовную семинарию. Закончив ее, продолжил образование в Киевской духовной академии. В 1907 году он получил ученую степень кандидата богословия, после чего восемь месяцев проучился в Берлинском университете. Антонина по совету старшего брата в 1913 году поступила учиться на историко-философский факультет Московских высших женских курсов, но закончить их из-за событий 1917 года она не успела.
31 августа 1912 года Петр Брянских был пострижен в монашество в Почаевской Лавре. При постриге он получил имя Парфений. Уже в начале сентября он был рукоположен во иеродиакона, а затем – во иеромонаха. 16 мая 1921 г. он стал епископом Новомиргородским.
В те годы принятие священного сана, тем более сана архиерейского, было равносильно избранию мученического пути. Такая судьба ожидала и епископа Парфения. В конце 1922 года он был выслан из Ананьева и поселился в московском Свято-Даниловом монастыре. Туда в 1924 году к нему приехала сестра Антонина вместе с матерью Анной Васильевной. Им пришлось пережить конфискацию имущества, смерть Арсения Петровича, вытерпеть немало унижений из-за своего «непролетарского происхождения»: ни одно советское учреждение не соглашалось брать на работу Антонину – дочь купца, сестру епископа.
Современники отмечали, что владыка Парфений «отличался необыкновенной прямотой и всегда безбоязненно обличал безбожие и обновленчество». Именно поэтому аресты и ссылки следовали один за другим. Вскоре епископа Парфения арестовали и выслали в Коми край. Из ссылки он вернулся лишь в 1927 году. Осенью 1929 года он был арестован во второй раз «за контрреволюционную деятельность». Его обвинили в том, что он «…будил верующих против закрытия церкви монастыря». Действительно, когда власти решили закрыть монастырские храмы, владыка организовал сбор подписей в их защиту. Церкви удалось отстоять.
Епископ Парфений был отправлен на три года в ссылку в Казахстан. В 1931 году к нему вместе с матерью приехала Антонина, решившая посвятить себя помощи брату. Она привезла туда его книги. Антонина вела переписку, систематизировала научные труды брата. Более того – именно она доставляла ему и матери средства к существованию. Это было сопряжено с большими трудностями – как уже говорилось выше, никто не соглашался брать на работу человека «не рабоче-крестьянского происхождения». Нередко случалось, что люди, спасая себя, отрекались от родственников-дворян, священнослужителей, купцов. Антонина Брянских до конца осталась верна своему брату и Богу, которому они служили оба, каждый по-своему.
По истечении срока ссылки епископу Парфению было запрещено жить в столице. Поэтому в 1934 году он поселился в подмосковном городе Кимры. Первой, найдя жилье и работу, туда переехала Антонина. Через два месяца владыку снова арестовали «за активную церковную деятельность… по созданию контрреволюционной организации Истинно Православной Церкви». На допросах епископ Парфений отрицал свое участие в какой-либо контрреволюционной деятельности, однако своего неприязненного отношения к советской власти не скрывал и утверждал, что «Русская Церковь лишилась своей внутренней свободы и оказалась порабощенной у антирелигиозного государства». Епископ Парфений вновь был отправлен в ссылку, на этот раз – на пять лет в Северный край. Так он оказался в Архангельске.
Вместе с матерью и сестрой владыка стал жить в доме № 253 по улице Петроградской (ныне пр. Ломоносова). В этом доме происходили его встречи с местным и ссыльным духовенством. Помимо этого епископ совершал тайные богослужения в домовых храмах прихожан Соломбалы, Маймаксы, Ломоносовского района. В том, что эти встречи и богослужения достаточно долго были тайной для властей и соглядатаев, была заслуга его сестры и сподвижницы Антонины. Она по-прежнему доставляла матери и брату средства к существованию, работая то счетоводом в городской типографии, то учительницей немецкого языка в школе повышенного типа № 1 для взрослых. Так она совершала свой ежедневный, незаметный для людей подвиг, закончившийся мученической смертью.
3 июля 1937 года епископ Парфений снова был арестован по обвинению в «контрреволюционной деятельности». В постановлении об аресте говорилось, что он, «…отбывая ссылку в Архангельске, организовывал контрреволюционную группу из числа церковников и ссыльного духовенства». Благодаря предусмотрительности Антонины при обыске в квартире владыки Парфения не нашли не только какой-либо антисоветской, но даже религиозной литературы, и тогда в ход пошли «показания» лжесвидетелей. Одна женщина, которая, как оказалось впоследствии, была негласной сотрудницей НКВД, заявила, что епископ Парфений позволял себе антисоветские высказывания. Именно они послужили основанием для того, чтобы архиерей был приговорен к расстрелу.
16 ноября 1937 года арестовали и Антонину Брянских. Обвинение ей предъявлено не было. Показания против нее дал всего один лжесвидетель, также являвшийся негласным сотрудником НКВД. Допрашивали Антонину только один раз. На этом единственном допросе она держалась очень мужественно и наотрез отрицала то, что её брат и она сама занимались «контрреволюционной деятельностью». Однако ее судьба, как и судьба епископа Парфения, была предрешена заранее: тройка УНКВД по Архангельской области признала Антонину Брянских «активной церковницей и активной участницей контрреволюционной группы церковников епископа Парфения Брянских», и приговорила ее к расстрелу.
9 января 1937 года, в праздничные Святочные дни, приговор был приведен в исполнение. Ранее, 22 ноября 1937 года, был расстрелян и епископ Парфений. Брат и сестра, при жизни вместе служившие Господу, ради него испили одну и ту же мученическую чашу и были прославлены Им по смерти. В 2005 году к лику православных святых был причислен священномученик Парфений (Брянских), а в августе 2007 года – его верная сестра и сподвижница мученица Антонина.
В конце выставки мы поместили фотографию Николая Даниловича Родимова, так же погибшего в годы Большого террора и прославленного в лике святых. А рядом надо бы поместить о фото его младших братьев: Иоанна и Аркадия, и сына Иоанна, расстрелянных тогда же, и племянника Тимофея, задушенного в Шенкурском монастыре в 1918 году. Но выставка не может быть бесконечной.
Бесы не плохо повеселились на просторах России в XX веке. Впрочем, не только России…Но в XXI веке воссоздается понятие Российского Удерживающего. Наверно, не важно в ком он персонифицируется: в Российском императоре, в Святейшем Патриархе или в понятии «российский военный и экономический потенциал».
Мы не можем не видеть, как стремительно восстанавливается Православие в России, строятся церкви и возрождаются монастыри. Это должно вселять надежду, что Господь простит Россию, это должно дать нам силы воскликнуть: «Слава Тебе, Господи! Пресвятая Богородица, спаси нас! Аминь!»
Составитель текста экскурсии Н.В. Суханов
[1] Книгу Олега Волкова «Погружение во тьму» мы будем цитировать неоднократно. Пусть он будет наши «Вергилием». Без провожатых во тьму ходить опасно.